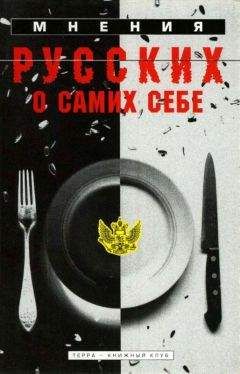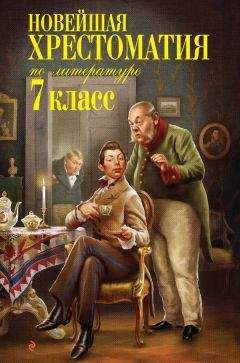Иван Бунин - Том 1. Стихотворения. Рассказы
От голоса ее мгновенно очнулся Ирвальд. Хотела Велга крикнуть ему, что она любит его, как в детстве, но не коснулись ее ноги земли, когда она прыгнула с лодки на берег: в воздухе повисла она крылатою белою чайкой, и крик ее раздался жалобно-радостным криком чайки над Ирвальдом. Он мгновенно очнулся от крика, — голос друга коснулся его сердца, — но, взглянув, он увидел лишь чайку, взлетевшую с криком над лодкой…
Он уплыл на восток. Она долго вилась над водой, провожая Ирвальда. А когда он сокрылся вдали, закачалась она бесприютною чайкой по ветру. Так тоскует она и доныне, вспоминая утесы в тумане, где когда-то томился Ирвальд. Но в стенаньях ее звучит радость.
1895
Без роду-племени
С вечера я спал крепко, потому что слишком измучился за день, но потом мне стало сниться, что я иду по каким-то станционным дворам и запасным пугям, среди паровозов и вагонов, ищу мужа Зины и хочу непременно убедить его, что я вовсе не враг ему, Я любил Зину, но теперь не думаю о себе, желаю только ее счастия. Казалось даже, что я говорил ему это, но он все уходил от меня и я плохо его видел, а моя нежность к Зине возрастала, все крутом темнело, странно вытягиваясь коридором, и вот этот коридор — слабо освещенный, насквозь видный ряд вагонов — уже бежит, дрожа подо мною, и какая-то красивая девушка, перебивая мои слова веселым шепотом, зовет и уводит меня за руку все дальше по узкому коридору поезда. Я едва поспеваю за нею, в поезде темнеет, вагоны бегут, увлекая меня за собою, — падают все ниже и ниже, точно сама земля падает под ними, и радость, страсть и отчаяние достигают во мне такого напряжения, что я делаю усилие крикнуть — и просыпаюсь.
Так начался этот день. Очнувшись, я долго и тупо глядел на стену, изумленный спокойным видом комнаты. Давно день, ставни открыты, и на часах — половина десятого… Боже, какой тяжелый вздор снился мне! И что это напоминает он неприятное и как будто неестественное? Ах, да! Зина повенчалась вчера с Богаутом…
Вот теперь я уж твердо верю в это. Правда, я ждал этого и все-таки продолжал ходить к Соймоновым. И вдруг однажды вечером — темнота и тишина во всем доме; старик Соймонов один сидит в темном кабинете, усиленно курит, задыхаясь более обыкновенного, и говорит мне, как только я появляюсь на пороге, неестественно равнодушно:
— А Катерина Семеновна с Зиной по лавкам поехали.
И, попыхтев, продолжает иронически:
— Великое переселение народов, что называется… К семейному торжеству готовимся… Нынче, знаете, весьма скоропалительно выходят эти истории!
Он хочет смягчить свои слова иронией, но я понимаю его и стараюсь только об одном — получше попадать ему в тон, чтобы поскорее и поприличнее уйти.
И я ушел, пришибленный, точно выгнанный из дому. Чтобы заглушить чувство боли, я усиленно развивал в себе злобу, презрение к этим свадебным приготовлениям. Я бродил по городу и, когда однажды встретил жениха, проехавшего с какими-то картонками в коляске, остановился и расхохотался. Катается на чужих лошадях и доволен! Как домой, является в чужую семью, где портнихи и белошвейки завалили все комнаты материями и выкройками!.. А потом будут сумерки, освещенная церковь, суета около паперти… Подкатывают кареты, и щеголь-пристав горячится, чтобы сохранить порядок в этой церемонии… И церемония совершается в образцовом порядке!
Но даже попытки злиться не удавались мне. Я ходил на службу, и тоска, боль дурманили мне голову. А тут еще Елена! Она одинока, измучена беганьем по урокам, бросила семью и живет впроголодь; но зато у нее есть цели и надежды, мечты о курсах, о науке, о работе для общества. У меня нет пока никаких целей, и вольно же ей было мечтать увлечь и меня за собою! Всегда резко-бодрая, она изменилась за последнее время. То грустно-ласкова со мной, то хмурится, точно ей больно. А когда я заявил ей третьего дня о своем отъезде, она вспыхнула, взглянула на меня изумленными глазами, потом неловко и кротко улыбнулась и, едва выговорив: «До свидания», — ушла… Я рассеянно посмотрел ей вслед.
Но вот эти сумерки наступили, и я очнулся. Я минута за минутой пережил в воображении все, что должно происходить в церкви, и жгучая злоба, ревность разрывали мне сердце. Я плакал и кого-то умолял сжалиться надо мною… Если бы вошла она в эту минуту! Я обезумел бы от счастья, целовал бы ее ноги! Иногда я порывался бежать к ней и у нее искать спасения от моей скорби. Но она-то и мучила меня. Выхода не было, и я метался по своей комнате… Потом острая боль стала замирать. Совсем стемнело; затихающий гул соборного колокола медленно и ровно раскачивался над городом. Я знал, что все уже кончилось там, в церкви. Острую боль заменила тупая, скучная, и я крепко заснул.
Вот опять день, но мне теперь легче. То, что снилось, так странно слилось со всем пережитым за последнее время. Надо встать, собраться и куда-нибудь уехать…
IIЯ долго мылся холодной водой, потом, не спеша, стал одеваться, что-то обдумывая. За стеной малороссийской скороговоркой ругала кухарку хозяйка. Мимо окна мягко прокатил по немощеной мостовой извозчик; стуча сапогами по деревянному тротуару, прошли два семинариста. Мне бы тоже давно пора идти — на службу, но я уже давно бросил думать о службе.
— Вы ж, панычу, справди уедете сёгодня? — спросила Одарка, входя в комнату с кипящим самоваром в руках.
— Что? — машинально проговорил я и, помню, долго глядел на нее без ответа. «Да, — думал я, — Зина уедет сегодня с мужем в Крым. Значит, мне тоже надо уехать отсюда».
— Непременно уеду, — ответил я твердо. — Непременно.
И, как только Одарка скрылась, заварил чаю и несколько раз прошелся из угла в угол, оглядывая, с чего начать сборы в дорогу. Но вдруг дверь снова распахнулась: почтальон!
Я быстро схватил письмо — и мгновенно разочаровался. «Пожалуйста, не уходи никуда завтра. Мне нужно серьезно поговорить с тобой. Елена». «Какое бабье письмо!» — подумал я со злобой. Не уходи, серьезно поговорить! Что я могу сказать ей? Взволнованный, я кинул письмо на стол и опустился в кресло.
День облачный, ветреный — стоит уже конец сентября, — и ветер проносит по улице пыль и листья. В открытую форточку долетает тревожный шум тополей. Улица, где я так однообразно провел почти два года, безлюдная, тихая и вся в деревьях. Деревья на бульваре и около тротуаров — старые и развесистые. Теперь они шумят сухой листвою; ветер гонит облака пыли и качает их из стороны в сторону… А пять месяцев тому назад, в теплые апрельские дни, они кудрявились нежной, мелкой зеленью, голубое небо сияло между их вершинами, и я бродил под ними по мягкой, влажной земле, чему-то радуясь!
Пять месяцев… И мне хочется твердо и определенно сказать себе, что я очень глупо провел эти пять месяцев.
Убедить себя в этом мне тем легче, что я не только не люблю Зины теперь, но даже со стыдом вспоминаю все, что говорил ей.
В марте образовался у нас «музыкально-драматический кружок», и я сам написал об этом событии корреспонденцию в «Летопись Юга». Корреспонденции увеличивают мое жалованье в земской управе рублей на восемь, на десять в месяц, и я аккуратно сообщаю в «Летопись» обо всех выдающихся городских событиях. С кривой улыбкой я пишу газетным жаргоном о положении народной столовой и чайной, о полковых праздниках и дамском благотворительном кружке, о доме трудолюбия, где бедные старики и старухи, измученные и обездоленные жизнью, обречены под конец этой жизни выполнять идиотскую работу — трепать, например, мочало… Пишу о том, что сельскохозяйственное общество «заслушало» и «передало в комиссию» чрезвычайно любопытный доклад под заглавием: «К вопросу об урегулировании свиноводства», и тут же добавлю, что «нельзя не отметить и другого отрадного факта: в среде местного интеллигентного общества, по инициативе супруги начальника губернии, возникла благая мысль организовать в нашем богоспасаемом городке кружок с целью проведения в жизнь и доставления публике здоровых и разумных развлечений…» С той же улыбкой я отправился и в дворянский клуб, на один из вечеров «кружка», в качестве скрипача, участвующего в концерте.
Утомленный однообразной зимней жизнью — службой, обедами в кухмистерской и скучными вечерами в своей студенческой комнатке, где всегда пахнет дешевым глицериновым мылом и где вся мебель состоит из стола, кровати, двух-трех стульев и плетеной корзины, — я был возбужден клубом. Я был доволен, что меня знакомят с семьями вице-губернатора и председателя суда, с чиновниками особых поручений и с богатым молодым помещиком Вечесловым, который так хорошо играет в любительских спектаклях… Все они такие свежие, бодрые, и все хотят незаметно обласкать тебя… В клубе — светло, просторно, зеркала, бархатная мебель, пахнет дорогим табаком, и оживленно идет говор. А главное, я не чувствую себя лишним но этот раз: я сыграл, как настоящий скрипач, одну вещь грустную, нежную, похожую на колыбельную песенку, а другую — бойкую, в темно мазурки, с резкими ударами смычка, — исполнил все, что полагается, и был одобрен… Вот тут-то и состоялось мое знакомство с Соймоновыми.