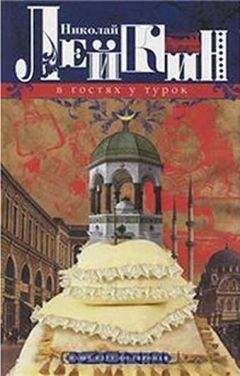Николай Лейкин - Где апельсины зреют
И Конуринъ въ восторгѣ даже схватилъ ее за талію.
— Чего вы хватаетесь-то? отмахнулась та.
— Отъ радости, родная, отъ радости. Своей жены нѣтъ, такъ ужъ я за чужую. Пардонъ. Сейчасъ въ буфетѣ бутылочку асти спросимъ, чтобы за общее наше здоровье выпить.
Съ станціонномъ буфетѣ Ивановы и Конуринъ застали цѣлый переполохъ. Пьяный Граблинъ проснулся, хватился своего бумажника и кошелька, которые отъ него взялъ на храненіе Перехватовъ, и кричалъ, что его обокрали. Онъ сидѣлъ безъ сапогъ съ вывороченными карманами брюкъ и пиджака, окруженный слугами ресторана, и неистовствовалъ, требуя полицію и составленія протокола. Слуга, которому Граблинъ былъ порученъ Перехватовымъ, разъ десять старался объяснить на ломаномъ французскомъ языкѣ съ примѣсью итальянскихъ словъ, что деньги Граблина цѣлы и находятся у русскихъ, но Граблинъ не понималъ и, потрясая передъ нимъ сапогами, оралъ:
— Полисъ! Зови сюда квартальнаго или пристава, арабская образина! Съ мѣста не тронусь, пока протокола не будетъ составлено! Грабители! Разбойники! Бандиты проклятые! Вишь, какое воровское гнѣздо у себя въ буфетѣ устроили!
Очевидно, Граблинъ давно уже неистовствовалъ. Два стекла въ окнѣ были вышиблены, на полу около стола и дивана валялись разбитыя бутылки и посуда. Самъ онъ былъ съ всклокоченной прической, съ перекосившимся лицомъ.
— Что вы, что? съ вами? подскочилъ къ нему въ испугѣ Николай Ивановичъ.
— Ограбили… До нитки ограбили… Ни часовъ, ни бумажника, ни кошелька — все слимонили, отвѣчалъ Граблинъ. — Да и вы, черти, дьяволы, оставляете своего компаньона одного на жертву бандитовъ. Хороши товарищи, хороши земляки, туристы проклятые! Гдѣ Рафаэлька? Я изъ него дровъ и лучинъ нащеплю, изъ физіономіи перечницу и уксусницу сдѣлаю!
— Успокойтесь, Григорій Аверьянычъ. Что это вы какой скандалъ затѣяли! Ваши деньги у мосье Перехватова. Все цѣло, все въ сохранности, кричала Граблину Глафира Семеновна.
— У Перехватова? — понизилъ голосъ Граблинъ. — Ахъ, онъ мерзавецъ! Отчего-же онъ записку не оставилъ у меня въ карманѣ, что взялъ мои деньги и вещи?
— Да вѣдь мы поручили васъ здѣшнему слугѣ и велѣли вамъ передать, чтобы вы о вещахъ не безпокоились, когда проснетесь, что вещи и деньги у вашего товарища. Вотъ слуга увѣряетъ, что онъ нѣсколько разъ заявлялъ вамъ объ этомъ, что вещи ваши у товарища.
— Можетъ быть и заявлялъ, но какъ я могу понимать, ежели я по ихнему ни въ зубъ! Онъ мнѣ показывалъ что-то на свой карманъ, хлопалъ себя по брюху, но развѣ разберешь!
— Ахъ, ты скандалистъ, скандалистъ! — покачалъ головой Конуринъ.
— Скандалистъ… — Сами вы скандалисты! Бросить человѣка въ разбойничьемъ вертепѣ!
— Да какой-же тутъ вертепъ, позвольте васъ спросить? И какъ васъ можно было вести на Везувій, ежели вы былина манеръ разварнаго судака, — пробовала вразумить Граблина Глафира Семеновна.
— Ахъ, оставьте пожалуйста, мадамъ… Я и отъ дамъ дерзостей не терплю. Какой я судакъ?
— Конечно-же былъ на манеръ судака, соусъ провансаль. Въ безчувствіи чувствъ находился, — прибавилъ Николай Ивановичъ.
— Довольно! Молчать!
— Пожалуйста, и вы не кричите! Что это за скандалистъ такой!
— Гдѣ Рафаэлька?
Граблину объяснили.
— Ну, пусть вернется, чортова кукла! Я съ нимъ расправлюсь, — проговорилъ онъ и началъ надѣвать сапоги, бормоча:- По карманамъ шарю — нѣтъ денегъ, сапоги снялъ — нѣтъ денегъ.
— Ахъ, ты, скандалистъ, скандалистъ! Смотрите, сколько онъ набуйствовалъ, — сказалъ Конуринъ, оглядывая комнату. — Посуду перебилъ, стулъ сломалъ, окно высадилъ.
— Плевать… Заплатимъ… И не такія кораблекрушенія дѣлали, да платили.
— Да ты-бы ужъ хоть насъ-то подождалъ, чтобы справиться о деньгахъ, саврасъ ты эдакій.
— Не смѣть меня называть саврасомъ! Самъ ты сѣрое невѣжество изъ купеческаго быта.
Перебранка еще долго-бы продолжалась, но Конуринъ, чтобы утишить ее, потребовалъ бутылку асти и, поднеся стаканъ вина Граблину, сказалъ:
— На-ка вотъ, понравься лучше съ похмелья. Иногда, когда клинъ клиномъ вышибаютъ, то хорошо дѣйствуетъ.
Граблинъ улыбнулся и пересталъ неистовствовать. Въ ожиданіи своихъ спутниковъ по шарабану — Перехватова и англичанъ, мужчины стали пить вино, но Глафира Семеновна не сидѣла съ ними. Она въ другой комнатѣ разсматривала книгу съ фамиліями путешественниковъ, побывавшихъ на Везувіи и собственноручно расписавшихся въ ней.
LXIII
Просмотрѣвъ книгу посѣтителей, побывавшихъ на Везувіи, и найдя въ ней всего только одну русскую фамилію, какого-то Петрова съ супрутой "de Moscou", Глафира Семеновна взяла перо и сама росписалась въ книгѣ: "Г. С. Иванова съ мужемъ изъ Петербурга".
Въ это самое время къ ней подошелъ слуга изъ ресторана и сталъ предлагать почтовыя карточки для написанія открытыхъ писемъ съ Везувія. На карточкѣ, съ той стороны, гдѣ пишется адресъ, была на уголкѣ виньетка съ изображеніемъ дымящагося Везувія и надпись по французски и итальянски "станція Везувій". Это ей понравилось.
— Николай Иванычъ, Иванъ Кондратьичъ! Полно вамъ виномъ-то накачиваться! Идите сюда, позвала она мужа и Конурина. — Вотъ тутъ есть почтовыя карточки съ Везувіемъ и можно прямо отсюда написать письма знакомымъ.
— Да, да… Я давно воображалъ написать женѣ чувствительное письмо… вскочилъ Конуринъ.
— Николай Иванычъ! Напиши и ты кому-нибудь. Надо-же похвастаться въ Петербургѣ, что мы были на самой верхушкѣ Везувія. Это такъ эффектно. Помнишь, какой переполохъ произвели мы въ Петербургѣ во время Парижской выставки, когда написали нашимъ знакомымъ письма съ Эйфелевой башни. Многія наши купеческія дамы даже въ кровь расцарапались отъ зависти, что вотъ мы были въ Парижѣ и взбирались на верхушку Эйфелевой башни, а онѣ въ это время сидѣли у себя дома съ курами въ коробу. Гликерія Васильевна даже полгода не разговаривала со мной и не кланялась.
— А ну ихъ, эти карточки! Что за бахвальство такое! отвѣчалъ Граблинъ, который, выпивъ вина, въ самомъ дѣлѣ какъ-то поправился и пришелъ въ себя.
— Ахъ, оставьте, пожалуйста… Вы не были на Везувіи, такъ вамъ и не интересно. А мы поднимались къ самому кратеру, рисковали жизнью, стало быть какъ хотите, тутъ храбрость. Со мной вонъ два раза дурно дѣлалось, отвѣчала Глафира Семеновна.
— Надо, надо написать письмо; Непремѣнно надо, подхватилъ Николай Ивановичъ. — Гдѣ карточки? Давай сюда.
Началось писаніе писемъ. Конуринъ и Николай Ивановичъ заглядывали въ карточку Глафиры Семеновны. Та не показывала имъ и отодвигалась отъ нихъ.
— Я только хочу узнать, Глаша, кому ты пишешь, сказалъ Николай Ивановичъ.
— Да той-же Гликеріи Васильевнѣ. Пусть еще полгода не кланяется.
— Ну, а я перво на перво напишу нашему старшему прикащику Панкрату Давыдову.
— Ну, что Панкратъ Давыдовъ! Какой это имѣетъ смыслъ Панкрату Давыдову! Получитъ письмо и повѣситъ въ конторѣ на шпильку. Надо такимъ людямъ писать, чтобъ бѣгали по Петербургу и знакомымъ показывали и чтобъ разговоръ былъ.
— Я въ особомъ тонѣ напишу, въ такомъ тонѣ, чтобъ всѣхъ пронзить.
Николай Ивановичъ долго грызъ перо, соображая, что писать, и наконецъ началъ. Написалъ онъ слѣдующее:
"Панкратъ Давыдовичъ! По полученіи сего письма, прочти оное всѣмъ моимъ служащимъ въ конторѣ, складахъ и домахъ моихъ, что я вкупѣ съ супругой моей Глафирой Семеновной сего 4-16 марта съ опасностью жизни поднимался на огнедышащую гору Везувій, былъ въ самомъ пеклѣ, среди пламя и дыма на высотѣ семисотъ тысячъ футовъ отъ земли и благополучно спустился внизъ здравъ и невредимъ. Можете отслужить благодарственный молебенъ о благоденствіи. Николай Ивановъ".
Прочтя въ слухъ это письмо, Николай Ивановичъ торжественно взглянулъ на жену и спросилъ:
— Ну, что? Хорошо? Прочтетъ онъ въ складахъ и такого говора надѣлаетъ, что страсть!
— Хорошо-то, хорошо, но я-бы совѣтовала тебѣ кому-нибудь изъ знакомыхъ шпильку подставить, что вотъ, молъ, вы у себя на Разъѣзжей улицѣ въ Петербургѣ коптитесь, а мы въ поднебесьи около изверженія вулкана стояли, отвѣчала Глафира Семеновна.
— Это само собой. Я знаю, на кого ты намекаешь, про Разъѣзжую-то поминая. На Петра Гаврилыча? Тому я еще больше чорта въ стулѣ нагорожу сейчасъ.
— Позволь… остановилъ его Конуринъ. — Да неужто мы были на высотѣ семисотъ тысячъ футовъ?.. Вѣдь это значитъ сто тысячъ сажень и ежели въ версты перевести…
— Плевать. Пускай тамъ провѣряютъ.
И Николай Ивановичъ снова принялся писать, а минутъ черезъ пять воскликнулъ:
— Готово! Вотъ что я Петру Гаврилычу написалъ: "Многоуважаемый" и тамъ прочее… "Шлю тебѣ поклонъ съ высоты страшнаго огнедышащаго вулкана Везувія. Вокругъ насъ смрадъ, сѣрный дымъ и огнь палящій. Происходитъ изверженіе, но насъ Богъ милуетъ. Закурилъ прямо отъ Везувія папироску и пишу это письмо на горячемъ камнѣ, который только что вылетѣлъ изъ кратера. Головешки вылетаютъ больше чѣмъ въ три сажени величины, гремитъ такой страшный громъ, что даже ничего не слышно. До того палитъ жаромъ, что жарче чѣмъ въ четвергъ въ банѣ на полкѣ, когда татары парятся. Здѣсь на вершинѣ никакая живность не живетъ и даже блоха погибаетъ, ежели на комъ-нибудь сюда попадетъ. Кончаю письмо. Жена тоже не выдерживаетъ жару и просится внизъ, ибо съ ней дурно. Самъ я опалилъ бороду. Сейчасъ спускаемся внизъ на проволочныхъ канатахъ. Поклонъ супругѣ твоей Маврѣ Алексѣевнѣ отъ меня и отъ жены".
![Николай Лейкин - Наши за границей [Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых в Париж и обратно]](/uploads/posts/books/225932/225932.jpg)