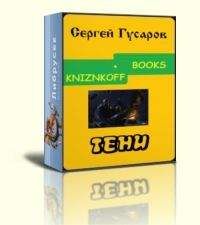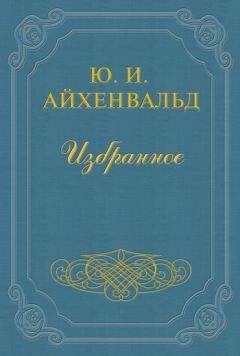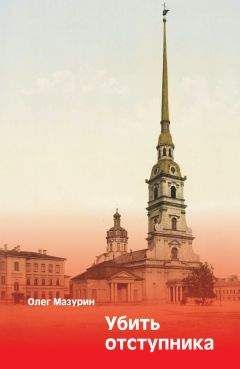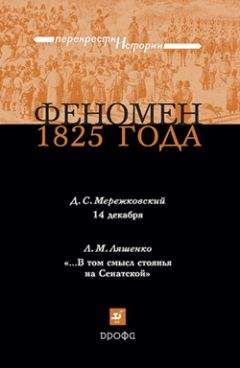Сергей Терпигорев - Потревоженные тени
Я смотрел на него. Он был весь и лошадь его вся в грязи и мокрые. Отец прочитал письмо и, передавая его матушке, сказал, обращаясь к посланному:
— Ну, поезжай, я не держу. Только как же ты по этой дороге провезешь доктора?
— Приказано-с... к вечеру...
Посланный, молодой малый, я знал его немного в лицо — кажется, конюх, — вскочил на лошадь, надел шапку и опять как сумасшедший поскакал дальше.
Начались предположения, что и как. Матушка с отцом высказывали свои соображения о том, что Петр Васильевич просто сумасшествует от нечего делать и со скуки, что, может быть, доктора вовсе еще и не нужно, что как это Андрюшка слетает в город, за двадцать верст, и к вечеру, — а уж и теперь не утро, а вечер, — успеет привезти его оттуда и, наконец, как это по этакой дороге доктор поедет, какой это согласится, и проч., и проч. Я слушал все это, понимал, о ком идет речь, хотя и в первый раз еще услыхал, что «ее» зовут Лизаветой Семеновной...
Мы долго пробыли на плотине, смотрели, как работают, смотрели на реку, покрытую каким-то сине-серым, пропитанным набежавшей с берегов водой, сквозным, заледенелым снегом. Смотрели вверх на летевших в высоте длинными, растянутыми треугольниками диких уток, гусей и возвратились в дом, когда было уже почти совсем темно. А часа через три еще, когда в угольную к нам «от начальников» вернулся из передней отец, он сказал, что сейчас мимо дома, по дороге, проскакал на тройке в какой-то таратайке, должно быть, доктор в Прудки, потому что слышали голос «Андрюшки», погонявшего немилосердно лошадей.
VI
К нам ездил — каждый месяц два раза — наш годовой доктор Богдан Карлович Нусбаум. Обыкновенно он приезжал к вечеру, осматривал нас, то есть мы ему высовывали языки, он щупал пульс, прикладывал руку к щекам, к голове, шутил с нами, смеялся, иногда что-нибудь «на всякий случай» прописывал. К нему также приходили дворовые, мужики, бабы — он должен был и их лечить, — а к тем, которые были трудно больны и не могли прийти сами, он ездил в их избы, для чего ему запрягали легкий экипаж, и он отправлялся. Богдан Карлович всегда оставался у нас ночевать, утром пил чай, завтракал и, если у нас все было благополучно, ехал дальше, к другим, у кого он тоже был годовым. Эти разъезды он совершал всегда на лошадях тех помещиков, которых лечил. К нам приедет на васюковских лошадях, а от нас, к Емельяновым, поедет на наших, от Емельяновых дальше уж на их, таким образом.
Богдана Карловича мы с сестрой не любили: он был весь какой-то притворный, неестественный: и шутил он с нами и смеялся все как-то деланно, искусственно. Особенно противно он смеялся — громко, закатисто, и сейчас видно, что нарочно: ничего смешного нет, а он смеется... Так, из разговоров, мы слышали, что он имеет очень много денег и ему должны были многие. Ему каждый год два раза — перед рождеством и перед пасхой — посылали овса, муки, крупы, масла, ветчины, кур, уток, гусей; посылают исправнику, становому, судейским, почтмейстеру — и ему тоже. Деньгами я не знаю что ему платили.
Он был тоже помещик — не сам он, а жена его: он был женат на чьей-то вдове, у которой было где-то, в нашем же уезде, имение, но они там не жили, а жили в городе, куда за ним и посылали, если было что нужно.
На другой день, вот после того, как ночью слышали голос «Андрюшки», проскакавшего назад из города, по предположению, с доктором, когда мы только что утром отпили чай и хотели с Анной Карловной идти заниматься в классную, доложили, что приехал этот Богдан Карлович Нусбаум, а вслед за тем, в качестве домашнего человека, он и сам явился в столовую.
Он вошел, по обыкновению, шумно, сейчас же засмеялся своим притворным смехом и в одно и то же время начал здороваться с матушкой — отца не было дома — и шутить с нами.
— Богдан Карлович, вы от Петра Васильевича? — спросила матушка.
— От Петра Васильевича, — отвечал он, и вдруг сделал серьезное лицо, перестал смеяться, оставил нас и сел к столу.
Матушка и Анна Карловна посмотрели на него вопросительно.
— Плохо... Там очень плохо.... — наконец выговорил он. И сейчас же добавил: — Только не «эта», не то, что вы думаете. У «нее» еще ничего нельзя сказать, что такое... Ну, может быть, будет маленький тифик... Но кучер и потом этот лакей...
Матушка и Анна Карловна смотрели на него с величайшим любопытством и недоумением, не произнося ни слова.
Богдан Карлович, сказав это, тоже замолчал и, поглядывая на нас через свои очки, постукивал пальцами по столу.
— Да... очень плохо может кончиться, — повторил он.
Матушка наконец сказала:
— Да что такое?
— Вы разве не знаете? — удивился Богдан Карлович.
— Ничего;
— Петр Васильевич их страшно наказал... Так нельзя наказывать... Ну, они виноваты, зачем послушались ее, поехали через лед, их можно было наказать, но не так...
— И что ж теперь? — проговорила матушка.
— Я не знаю. Кучер, может быть, уж умер теперь. Я уехал...
Богдан Карлович, помолчав немного, опять побарабанил по столу и спросил: где отец, скоро ли он придет, все ли у нас здоровы?
Анна Карловна, ну, вы идите, ведите их в классную, — сказала матушка, видимо желая наедине и подробнее расспросить Богдана Карловича: она это всегда так делала, к крайнему нашему неудовольствию.
— Да... да... — повторил он. — Ну, а что они? — указывая на нас головой, говорил доктор, — ничего?
— Ничего, слава богу.
— Ну, впрочем, я у вас сегодня пробуду, успеем, — сказал Богдан Карлович, намекая на то, что он успеет нас осмотреть и теперь не задерживает нас, можем идти в классную.
Анна Карловна встала и увела нас.
Из столовой в классную надо было идти через ту комнату, где висел дядин портрет верхом на лошади. Проходя мимо, я с каким-то странным чувством посмотрел на него — долго, пристально...
И сестра Соня и Анна Карловна были — может, мне казалось — тоже в каком-то странном состоянии...
Мы наконец уселись, и гувернантка начала нам диктовать. Этот прием она всегда делала, когда хотела сразу занять нас, чтобы мы не разговаривали и чтоб ей было свободно думать и не разговаривать с нами: никаких программ и распределений занятий у нас, конечно, не было.
Я писал, а слышанное у меня не выходило из головы. На каком-то перерыве я наконец не выдержал и спросил:
— За что же он их так наказывал?
— Кого? — не сообразив вдруг, сказала Анна Карловна.
— А вот кучера и лакея.
Но Анна Карловна уж спохватилась и сухо ответила:
— Это не ваше дело.
— Ведь «она» им велела ехать... — продолжал я. — Чем же они виноваты?
— Это не ваше дело, я вам сказала.
Она начала диктовать, и мы опять принялись писать. Снова через несколько минут наступил перерыв, и опять не совладал с собою — я весь был поглощен этой мыслью — и спросил:
— Ну, а если они умрут?
— Кто? — сказала Анна Карловна и, не дожидаясь моего ответа, поняв, о ком я говорю, сказала:
— Если вы не перестанете и будете продолжать, я пойду и скажу мамаше, что вы мешаете, не даете заниматься и Соне.
Я писал крайне невнимательно, наделал массу ошибок, Анна Карловна возмущалась, и когда нас позвали из классной завтракать, — мы оставались в классной и по окончании занятий, она почему-то не выпускала нас, — Анна Карловна, идя с нами, пригрозила мне, что скажет обо всем матушке. Но я нимало не был этим смущен. Меня гораздо больше занимала мысль, не услышу ли я за завтраком от Богдана Карловича еще чего-нибудь.
Но, к удивлению нашему, Богдана Карловича за завтраком не было. Отец с матушкой уж сидели за столом. Отца я не видал еще сегодня и потому подошел к нему поздороваться.
— А где же Богдан Карлович? — спросил я.
— Он уехал в Прудки. За ним присылали. Он сегодня опять приедет, — ответил мне отец.
Оба они — и отец и матушка — сидели смущенные. Лакей, подававший кушанье, был тоже особенно как-то серьезен и ходил совсем неслышными шагами. Анна Карловна не пожаловалась на меня: она сразу поняла, что теперь не момент...
Мы молча, почти не проронив ни одного слова, позавтракали, и когда встали, матушка сказала Анне Карловне, чтобы мы пошли в сад погулять, где просохли дорожки, и чтобы она только посмотрела, крепкие ли у нас калоши и, вообще обувь.
— А если они не будут слушаться и станут ходить, где мокро, вы тогда скажите мне: я другой раз не пущу.
— Слышите, — обретясь ко мне, внушительно заметила Анна Карловна.
— А что? Он разве не слушается? — проговорила матушка.
— Так... я вам после скажу, — ответила Анна Карловна.
VII
Как это всегда бывает весною, сад, еще каких-нибудь три-четыре дня до того покрытый весь лужами и местами даже не растаявшим еще снегом, теперь был почти весь уже сухой. На дорожках еще кое-где стояли лужи, но куртины, покрытые старой, желто-серой прошлогодней травой, были уже совсем сухие. Анна Карловна и мы пошли по куртинам, по этой старой сухой траве. День был чудесный, солнечный; было даже жарко: нас страшно кутали всегда.