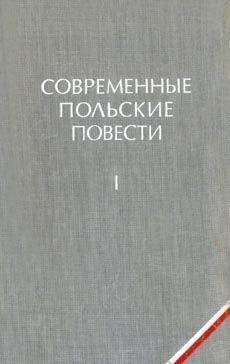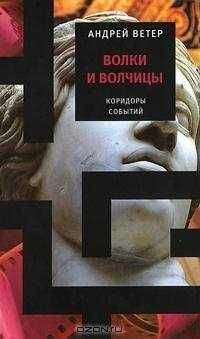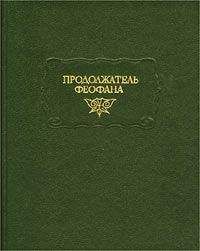Юрий Герман - Один год
- В сознания он?
- Так. Не очень. Смутное сознание.
- Мамаша его сильно переживает?
- Трудно ей, - ответил Ханин. - Женщина еще не старая, один сын. Держится. Давеча сказала как про мертвого про Толю: "Он всегда такой был себя не щадил..."
- А ты что ж там, Давид Львович, жить поселился?
- Пока поживу. Ты пойми - я не могу уехать.
- Да, я понимаю.
Они помолчали.
- Ну а у вас что? - осведомился Ханин.
- Да ничего особенного, - сказал Лапшин. - Вот в газете пропесочили нас нынче за нерадивость. Один пьяный тещу побил - куда смотрела милиция. По Демьянову врезали, двадцать лет ни одного взыскания не имел, наверное погонят. Пресса - великое дело. Ну ладно, будь здоров, Давид, я поближе к вечеру приеду с Антроповым, он хирург толковый, хотя и не профессор.
Повесив трубку, Лапшин попил жидкого чаю и по телефону стал проверять, что слышно с Корнюхой. Побужинский и Криничный опять уехали, сообщений от них не поступало. Было уже двадцать минут первого. Выбритый, вылощенный, с подстриженными, ровными щеточками седых усов, ни дать ни взять голубых кровей офицер, пришел кротчайший Леонид Лукич Коровайло-Крылов, судебно-медицинский эксперт, старый учитель Лапшина, спросил строго:
- Здоровье как?
- Скрипим помаленьку.
Папка с делом братьев Невзоровых лежала возле локтя Лапшина. Коровайло взглянул на нее боковым зрением, словно воробей перед тем как клюнуть. Поговорив для приличия слегка о погоде, Иван Михайлович развязал тесемки, Коровайло протер стекла очков.
- Вы ведь и на место выезжали? - осведомился Лапшин.
- Так точно!
Глубоко штатский Леонид Лукич страстно почитал военную дисциплину, форму, манеру держаться, лаконизм, четкость. Пиджак, жилетка, галстук тяготили его. Года два, сразу после революции, он ходил во френче и в английских бриджах, носил краги и даже портупею, был принят за белого офицера и доставлен на Гороховую, 2 Лапшиным. Недоразумение быстро выяснилось, чекисты посмеялись, профессор Коровайло навсегда расстался с крагами и портупеей. Но держался по-прежнему, словно старый боевой генерал в отставке.
- Убежден, - сказал Коровайло, - совершенно убежден, дорогой Иван Михайлович, что тяжелораненый Самойленко сам прополз вот эти два и три десятых километра, иначе - два километра триста метров...
- Следовательно, при своевременном оказании медицинской помощи он бы мог спастись?
- Сейчас и Александра Сергеевича Пушкина спасли бы, - наклонив голову с пробором, сказал Коровайло, - и Лермонтова.
- Можно предположить, что Самойленко умер от потери крови и переохлаждения? Помню, вы читали нам лекцию о смерти Лермонтова...
- Совершенно верно, - все еще вглядываясь в фотографию, ответил эксперт, - здесь аналогия уместна. Если бы Михайлу Юрьевича дураки не оставили под проливным дождем, да еще и холодным...
Лапшин поправил:
- Дураки и трусы...
- ...и трусы, а сразу согрели бы, то...
- Выжил бы?
- В то время вряд ли, но сейчас почти наверняка. Имеется предположение, и очень обоснованное, что скончался Лермонтов много позже, а именно тогда, когда его снимали с арбы...
- Когда он вздохнул?
- И это помните?
- Я ваши лекции, Леонид Лукич, отлично помню...
Коровайло покраснел сизым, стариковским румянцем. Относился он к Лапшину с огромным уважением, до сих пор не понимая, как из неграмотного деревенского парня "образовалась вот эта интеллектуальная силища", и всегда радовался, если случалось Лапшину обратиться к нему за советом.
- Интереснейшее дело, - произнес Коровайло. - До чрезвычайности.
- Мне оно не слишком интересно.
- Почему так? Со стороны этической?
- Пожалуй.
И он вновь открыл папку, уже завязанную руками Коровайло, и стал - в который раз за эти месяцы - перекладывать фотографии истлевшего трупа, страшного, лишенного лица, кожи, волос, такие фотографии, которых нигде больше не увидишь, кроме как в этих папках, да еще в Музее уголовного розыска. А старый мудрец Коровайло рассказывал, как все произошло, откуда стреляли, как Самойленко еще прошагал немного, как повалился и пополз...
- Не верил, что его бросили, звал на помощь, - произнес Лапшин. - А? Или это по науке не определишь?
- По моей нет, по вашей - весьма возможно! - отозвался Коровайло.
Лапшин велел подать старику машину, проводил его до двери и приказал привести Глеба Невзорова.
- Слушаюсь! - строгим, служебным голосом сказал Бочков. И добавил шепотом: - Напуганы оба до невозможности.
Иван Михайлович кивнул.
Ему на мгновение стало душно, он распахнул форточку и подышал морозным воздухом Дворцовой площади. И странно: не радость от того, что дело, по существу, распутано, не ощущение близкой и окончательной победы, не облегчение испытывал он сейчас, а горечь. Горечь от того, что в том мире, который он столько лет и с таким трудом создавал, существуют, и не только существуют, но и живут припеваючи братья Невзоровы. Горечь от того, что несомненно погибнет Толя Грибков, а Невзоровы отбудут положенный срок и возвратятся, и будут считаться, что в молодости мало ли какое бывает. Самойленко забудут, и Толю Грибкова забудут, так уж устроена жизнь, а у Невзоровых - это непременно им скажет их папаша - "все еще впереди..."
Потом, не торопясь, он обернулся.
И Невзоров Глеб увидел такие глаза, которые запомнил если не навечно, то на долгие, на очень долгие годы. Это не были "ледяные" глаза, о которых он читал в книгах. Это тем более не были "пронизывающие" глаза, которые попытался час тому назад "организовать" Вася Окошкин. И "холодными" не были эти глаза, в них читалось только одно выражение - выражение брезгливого презрения, тяжелого, давящего, уничтожающего.
- Садитесь, Невзоров, - сказал Лапшин, кивком показывая, что Невзоров может сесть не в мягкое кресло возле стола, а поодаль, на стул. - Вы Невзоров Глеб?
- Да, Невзоров Глеб.
Теперь оба сидели. Лапшин курил глубокими затяжками, стараясь перестать думать о Толе Грибкове, еще живом, и о тех своих товарищах, которые погибли на протяжении таких нелегких лет во имя того, чтобы радостно, светло и тепло росли эти, допустим, братья Невзоровы. Вот и выросли! Вот и выросли, как говорилось раньше, "церкви и отечеству на пользу". Выросли, не зная нужды, под крылом папеньки-профессора и маменьки, обожающей "своих мальчиков". Выросли...
Сильно придавив пальцем окурок в пепельнице, Лапшин тяжело вздохнул и, не глядя на Невзорова, осведомился:
- Вы понимаете, почему тут очутились?
- Не желаю понимать! - наглым, звенящим и бешеным голосом ответил Глеб. - Вы еще ответите за все ваши действия. Не на того напоролись. А когда вас поволокут к ответу - тогда прощения не просите. Ясно вам?
Лапшин едва заметно улыбнулся. Эх, Бочков, Бочков, простая душа. Напуганы? Нет, эти не таковские. Ну да что ж, посмотрим. В восемнадцатом, в девятнадцатом были мальчики и похлеще, и зубы были у них поострее, и враги были ясно выраженные, из другого, раздавленного класса. Ничего, все понимали и смирялись со своей судьбой. Спокойствие только нужно, железное спокойствие, как учил Феликс Эдмундович: никогда голоса не повышать, ибо враг подумает, что аргументов у тебя - один только голос.
- Если мы неправы, то, разумеется, попросим прощения, - мягким, почти что дружественным голосом сказал Лапшин. - Но пока об этом рано поднимать вопрос. Так что давайте, гражданин Невзоров, спокойненько, без нервов, побеседуем. Согласны?
Боль моя плачет...
Жмакин очнулся на чем-то белом, ярком, твердом и с ненавистью обвел зелеными, завалившимися глазами часть стены, сверкающий бак, вроде как для питьевой воды, узкую сутуловатую спину в халате.
Никто не обращал на него решительно никакого внимания.
Напрягая нетвердую еще память, он осторожно вспомнил все то, что произошло с ним в бане. Кажется, он попытался покончить жизнь самоубийством?
Терзаясь стыдом, слабый, зыбкий, с неверным взглядом косящих глаз, он лежал на тележке в перевязочной и заклинал: "Умереть! Ах, умереть бы! Умереть, умереть..."
Кого-то вносили и уносили, на его зелено-серое лицо падали блики от стеклянной двери, и эти блики еще усиливали его мучения. К тому же он был безобразно, нелепо голым и таким беспомощным и слабым, что даже не мог закрыть себя краем простыни... "Ах, умереть бы, - напряженно и страстно, с тоской и стыдом думал он, - ах, умереть бы нам с тобой, Жмакин..."
Он слышал веселые голоса и даже смех, а потом сразу услышал длинный, захлебывающийся, хриплый вой...
- Но, но, - сказал натуженный голос, - тише, пожалуйста!
Вой опять раздался с еще большей силой и вдруг сразу умолк.
- Поздравляю вас, - опять сказал натуженный голос.
Сделалось очень тихо, потом раздались звуки работы, топанье ног, шарканье, отрывистое приказание; потом мимо голых ног Жмакина проплыла тележка с чем-то покрытым простыней. "Испекся", - устало подумал Алексей и позавидовал спокойствию того, кто был под простыней.