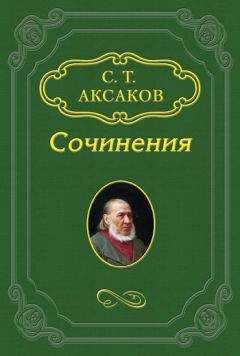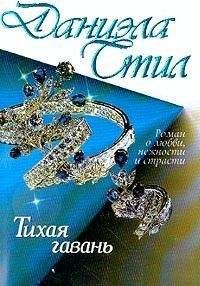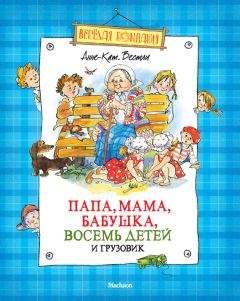В Маклаков - Из воспоминаний
Нет, я смотрю более мрачно на ваше дело. Пожалуй, вам дадут три года.
Я совершенно не вижу, чем бы я мог вам помочь. Я так и напишу в Ясную Поляну. Ну, а что говорит ваш защитник?
{274} - Насколько я понял, Маклаков надеется перевести обвинение с этих ужасных статей на статью 132, т. е. только за хранение с целью распространения.
Старый законник улыбнулся.
- Ну, если ему это удастся, в чем, однако, я сомневаюсь, это будет чудо. В вашем обвинительном акте есть такие статьи: 73, 107, 128, 129... Нет, меньше трех лет они вам не дадут. Про сто тридцать вторую здесь даже не упоминается. И он думает загипнотизировать судей своими ораторскими приемами?
- Да, он думает убедить их отказаться от всех этих статей и ввести сто тридцать вторую.
- Ну, повторяю, блажен, кто верует. Но, как бы ни слаб был наш суд сейчас, я не думаю, чтобы это ему удалось. Но во всяком случае дай вам Бог, - говорил мне на прощание, провожая в переднюю, добрый старик. - Кланяйтесь ему и передайте, что я считаю чудом, если это ему удастся. Но он опытный адвокат и прекрасный оратор и сам это знает.
Так смотрел Кони. Но Палата, перед которой выступал я и приглашенный мною мой друг М. Л. Гольдштейн, решила иначе: она признала Фельтена виновным по 132 ст., а по 129 его оправдала по "недоказанности события преступления". Этого мало. Она зачла в назначенный срок наказания время, проведенное им в "предварительном заключении", и Фельтен фактически вышел оправданным. Такой исход показывает, насколько защита в подобных делах могла быть полезна, на другой позиции, чем мог и хотел подсудимый, при условии, конечно, не заводить с ним "полемики".
Воспоминания Фельтена дают материал, чтобы судить о темной стороне этой позиции для самой защиты. Он пишет следующее:
"При упоминании имени Маклакова у Льва Николаевича проявилось к нему двойное отношение: этот, дескать, всё знает, и вместе с тем легкая насмешка, {275} слегка как будто ироническое отношение, как будто он хотел сказать: это тоже мошенник. Может быть, я ошибаюсь, но мне тогда казалось это несомненным".
Формулировка этого впечатления принадлежит самому Фельтену, а не Толстому, да и то, по его же словам, это Фельтену тогда только как будто казалось. Такая формулировка была бы не в стиле и не в характере Льва Николаевича; он не был доктринером и понимал необходимость уступок для дела. Так он теоретически осуждал "общественную благотворительность", а в 1891 г., во время голода, сам к ней призывал. Был противником "государственного принуждения", а проповедывал государственную реформу Генри Джорджа, писал об этом Столыпину, просил меня поднять этот вопрос в Государственной Думе. Кто за это его упрекнет? Но невероятно, чтобы за это же самое он в других видел "мошенников". Да и сам Фельтен, который не стал сам себя выгораживать и от следователя ничего не скрывал, всё же обратился к защитнику, не затем, чтобы на суде тот продолжал его пропаганду. Однако, было верно то, что позиция обвиняемого, который считал своим долгом делать то, за что его судят, и остается на суде при таком понимании своего долга, может расходиться со взглядами адвоката, который защиту его взять на себя согласился. Подсудимый и его защитник, конечно, должны быть между собой вполне откровенны и не навязывать друг другу своего понимания, но это и всё. Это устранит возможный конфликт между ними, который смутно почувствовал Фельтен, едва ли основательно приписав его самому Льву Николаевичу. Это с его стороны позднейшие измышления.
Вспоминая такие защиты в старых судах, до революции 1917 года, не могу не признать, что защита в них. была возможна и не безнадежна, несмотря на политические страсти, которые уже разгорались. Даже с самыми строгими судьями, поскольку совесть судьи в {276} них не заменила "политика", защита могла иметь общий язык. У защитника, если он и не хотел превращать суд в политический митинг, всегда оставались ресурсы. Не говорю уже о том, что он должен был защищать процессуальные права подзащитного, на самом суде, которых он сам мог часто не знать и которые без вмешательства защитника могли нарушаться. Хотя прокурор на суде и считается не только стороной, т. е. обвинителем, но и защитником законности, даже в интересах самого подсудимого, рассчитывать на его объективность было рискованно. Кроме того, у защитника всегда оставалась свобода опровергать улики, т. е. отрицать самый факт преступления.
В этом добросовестный судья ему не может мешать, а иногда в этом вся суть. А затем большую роль могут играть мотивы поступка, непосредственная причина его. Даже военный суд во имя этих мотивов часто просил командующих войсками о смягчении вынесенного им приговора. В юбилейном сборнике напечатана моя речь перед Палатой, по Долбенковскому аграрному делу, где я просил судей обратиться к верховной власти за смягчением наказания и они это сделали. Хотя мы, защитники, этого не просили в деле Павловских сектантов, но мы своей защитой повлияли на то, что эту задачу взял на себя и успешно провел бывший на суде представитель министра юстиции И. Г. Щегловитов.
И, наконец, у защитников остается свобода в толковании карательной нормы и они могут свои соображения передавать на разрешение судей. Пока суды у нас оставались судами, у защитников был тот язык, который! для судей даже противоположных политических взглядов был всё же понятен. Этот язык должен был основываться на уважении к закону и праву, а не на повиновении чьей-то воле, монарха, большинства, "избранной партии" или "революционной стихии". Те, кто проникнуты ощущением "права", как руководителя государственной жизни, могли и при политическом {277} разногласии друг друга понять. Во мне такое ощущение права было и, может быть, именно потому Милюков про меня написал, что "политика не была моей сильной стороной", что я был "адвокат по профессии" и оставался им в Государственной Думе (41, 57 книжки "Соврем. Записки"). "Настоящего политика" аргументами права нельзя убедить. Зато я мог убеждать даже таких строгих судей, каким был Крашенинников, пока он не превратился в "политика". Это обнаружилось на Выборгском процессе, о котором я говорил.
Я в этом имею неожиданную возможность сослаться на М. Мандельштама. В отличие от меня, он был "настоящим политиком". У него было даже пристрастие к "Революции", как к одушевленному существу, наделенному собственной волей. Помню, как в 1905 году он вышучивал кадетскую партию за претензию "бороться" с Революцией и ее "воле" ставить преграды. Но Мандельштам достаточно долго работал в судах, дышал их атмосферой, чтобы не допускать в других обаяние и обязательность права для государственной защиты.
Он это понял во мне, слушая мою защиту в Выборгском деле.
Я так изложил в конце этой речи, после разбора статей 129 и 132 Уложения, свое profession de foi (Исповедание веры.).
"Та постановка обвинения, которую дал прокурор, не есть торжество правосудия; я скажу про нее, что она общественное бедствие. И во мне говорит сейчас не их политический единомышленник, который относится к ним, когда они сидят на этих скамьях, с тем же уважением, с каким относился к ним, когда они сидели на наших скамьях; не юрист, которому больно равнодушно смотреть, как на его глазах истязают закон; во мне говорит человек, который имеет слабость думать, что суд есть высший орган государственной власти, как закон есть душа государственности. Беда страны не в дурных или, как принято говорить, в несовершенных законах, а в том, что беззаконие может {278} твориться у нас безнаказанно. И какие бы хорошие законы ни были изданы, как бы ни был хорош законодательный аппарат, который теперь установлен, но если законы охранять будет некому, то от них не будет блага России. А охрана закона от всякого нарушения и сверху и снизу есть задача суда. Им могут быть за то недовольны, его могут втягивать в борьбу политических партий, могут грозить его несменяемости, но пока суд, хотя и очень сменяемый, но независимый суд, стоит на страже закона, - до тех пор живет государство.
Но когда я вижу, что прокурор, блюститель закона, публично просит его нарушения, когда не для торжества правосудия, а ради политических целей, он просит применить статью, которую нельзя применять, тогда наступает тот политический соблазн, перед которым в отчаянии опускаются руки. И не о судьбе этих людей, как бы они мне ни были близки и дороги, я думаю в эту минуту. Для них ваш приговор многого сделать не может, - но от него я жду ответа на тот мучительный вопрос, с которым смотрят на этот процесс многие русские люди, вопрос о том - найдутся ли у нашего закона защитники".
Вот об этой защите через 15 лет писал Мандельштам в своей книге "1905 год в политических процессах". "Особое впечатление произвел своей речью Маклаков. Его речь была чисто юридической, но в том то и состояла особенность этого ораторского таланта что он, как никто другой, загорался пафосом права. Психологические переживания, бытовые картины, - всё это мало затрагивало Маклакова, скользило мимо его темперамента, и в подобных делах он едва возвышался над уровнем хорошего оратора. Но стоило только какому-либо нарушению права "до слуха чуткого коснуться", как Маклаков преображался. Его речь достигала редкой силы подъема, он захватывал и подчинял себе слушателя.