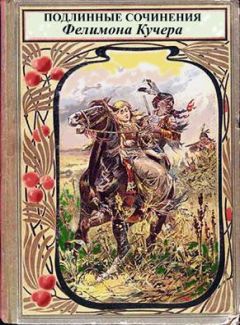Андрей Платонов - Том 4. Счастливая Москва
Инженер Всуев, прочтя, не улыбнулся: он знал место, где производится такое скучное горе, что для забвения его нужна радость, безумная, как глупость. Он и сам испытывал сейчас счастье и написал те слова, которые написаны в начале рассказа, обращенные к самому себе.
Пробыв еще полгода на заводе «1/6 суши», австралийский инженер изобрел способ просвечивания атмосферных туманностей для беспрерывных астрономических наблюдений и был принят в партию, перестав быть подручным пролетариата.
Бандит, пасший кроликов в Австралии, проник тайно в СССР и работал кирпичным кладчиком на капитальном строительстве того же завода, где был Всуев. Бандита вскоре открыли и увели на следствие в тюрьму, а потом судили в клубе, где присутствовал и Всуев. Инженер вспомнил знакомое лицо и вышел свидетелем. Он сказал, что данный человек плакал в Австралии от горя по СССР.
Суд задумался и отпустил бандита работать на воле.
<1929>
Мусорный ветер
Посвящается тов. Цахову, германскому безработному, свидетелю на Лейпцигском процессе, заключенному в концлагере Гитлера.
Оставьте безумие мое.
И подайте тех, Кто отнял мой ум.
«Тысяча и одна ночь»Над землей взошла утренняя заря на небе, и начался новый сияющий день 16 июля 1933 года. Однако к одиннадцати часам утра этот день уже постарел от действия собственной излишней энергии — от жары, от пылящей ветхости почвы, затмившей пространство, от тления всякого живого дыхания, возбужденного реющим светом, — и летний день стал смутным, тяжким и вредоносным для зрения глаз.
Стихия света проникала через большое горячее окно и освещала одинокого спящего на железной кровати, на бедном белье, взволнованном сонными движениями. Спящий человек был не стар, но обыкновенное лицо его давно посерело от напряжения, с которым уснувший добывал себе жизнь, и непроходящее утомленное отчаяние с костяной твердостью лежало в выражении его лица, как часть поверхности человеческого тела.
Было воскресенье. Из другой комнаты квартиры вышла смуглая жена спящего человека, по имени Зельда, родом с Ближнего Востока, из русской Азии. Она с кроткой тщательностью накинула одеяло на обнажившегося мужа и побудила его:
— Вставай, Альберт. День наступил, я достану чего-нибудь…
Альберт открыл глаза — сначала один глаз, потом другой — и увидел все в мире таким неопределенным и чужим, что взволновался сердцем, сморщился и заплакал, как в детском ужасающем сновидении, когда вдруг чувствуется, что матери нету нигде и вставшие, мутные предметы враждебно двигаются на маленького зажмурившегося человека… Зельда погладила Альберта по лицу, он успокоился, его глаза остановились — чистые, выгоревшие насквозь, глядящие неподвижно, как в слепоте. Он не мог сразу вспомнить, что он существует и что ему надо продолжать жить дальше, он забыл вес и чувство своего тела. Зельда ближе склонилась к нему, увядшая от голода афганка, некогда пышное и милое существо.
— Вставай, Альберт… У меня есть две картошки с ворванью.
Альберт Лихтенберг увидел с ожесточением, что его жена стала животным: пух на ее щеках превратился в шерсть, глаза сверкали бешенством и рот был наполнен слюной жадности и сладострастия; она произносила над лицом возгласы своего мертвого безумия. Альберт закричал на нее и отогнал прочь. Одеваясь, Лихтенберг видел, как плакала Зельда, улегшись на полу; нога ее заголилась — она была покрыта одичалыми волдырями от неопрятности зверя, она даже не зализывала их, она была хуже обезьяны, которая все же тщательно следит за своими органами.
Альберт взял трость и захотел уйти: он потемнел мыслью, эта бывшая женщина иссосала его молодость, она грызла его за бедность, за безработицу, за мужское бессилие и, голая, садилась верхом на него по ночам. Теперь она зверь, сволочь безумного сознания, а он до гроба, навсегда останется человеком, физиком космических пространств, и пусть голод томит его желудок до самого сердца — он не пойдет выше горла, и жизнь его спрячется в пещеру головы.
Альберт ударил тростью Зельду и вышел на улицу, в южную германскую провинцию. Звонили колокола римской веры, из небольшой уличной церкви выходили белые блаженные девушки с глазами, наполненными скорее сыростью любовной железы, чем слезами обожания Христа.
Альберт поглядел на солнце и улыбнулся ему, как далекому человеку. Нет, не солнце, не это всемирное сияние энергии, и не кометы, не бродячие черные звезды закончат человечество на земле: они слишком велики для такого небольшого действия. Люди сами затомят и растерзают себя, и лучшие упадут мертвыми в борьбе, а худшие обратятся в животных.
На крыльцо католического храма вышел римский священник, возбужденный, влажный и красный, — посол бога в виде мочевого отростка человека. Затем из церкви появились старухи, эти женщины, в которых кипевшие некогда страсти теперь текли гноем, и в чреве, в его гробовой темноте, истлевали части любви и материнства. Священник благословил с крыльца жаркое пространство и ушел в холодок своей квартиры на церковном дворе.
Мелкие колокола на башне еще продолжали звонить, вознося пропетые молитвы через готическую мучительную вершину храма в неясное небо, затуманенное зноем солнца. Вечные колокола звонили о том же, о чем писали газеты и книги, о чем играла музыка в ночных кафе: «Томись — томись — томись!»
Но уже двадцать лет слышал этот однообразный всемирный звук Альберт Лихтенберг: «Томись!» — и призыв к томлению, к замедлению, к уничтожению жизни все более усиливался, — одно лишь сердце билось невинно и ясно, как непорочное, как не понимающее ничего.
Альберт сел где-то в городе среди потоков жары; день продолжался над ним с тщательностью пустяка, с точностью государственной казни и с терпением неизвестного милосердия. Лихтенберг потрогал дерево, росшее перед ним. Внимательно и нежно он стал глядеть на это деревянное растение, мучимое тем же томленьем, тем же ожиданьем прохладного ветра в этом пыльном, душевном существовании.
— Кто ты? — спросил Лихтенберг.
Ветви и листья склонились к утомленному человеку. Альберт схватил близкую ветвь с той страстью и напряжением одинокого дружелюбия, перед которым вся блаженная любовь на земле незначительна. С дерева упали мертвые бабочки, но живая моль улетела в сухую пустоту.
Лихтенберг сжал трость в руке; он пошел дальше с яростью своего жесткого сознания, он чувствовал мысли в голове, вставшие, как щетина, продирающиеся сквозь кость. В тлеющем, измученном воздухе он увидел площадь города. Большой католический собор, как сонное тысячелетие, как организованное в камень страдание, стоял сосредоточенно и безмолвно, опираясь глубоко в могилы своих строителей. Снизу поднимался мусор: человек сто национал-социалистов, в коричневой прозодежде своего мировоззрения, монтировали памятник Адольфу Гитлеру. Памятник был привезен готовым на грузовике, его отлили из качественной бронзы в Эссене. Другой грузовик, имея кран на своей площадке, сгрузил памятник вниз, а еще четыре грузовых машины одновременно привезли тропические растения в синих ящиках морского цвета. Национал-социалисты трудились, не жалея одежды; их белье прело от пота, кости изнашивались, но им хватало и одежды и колбасы, потому что в тот час миллионы машин и угрюмых людей напрягались в Германии, обслуживая трением металла и человеческих костей славу одного человека и его помощников.
Из центральной улицы города вышла единодушная толпа — в несколько тысяч человек, толпа пела песнь изнутри своей утробы — Лихтенберг ясно различал бас пищевода и тенор дрожащих кишок. Толпа приблизилась к памятнику; лица людей означали счастье: удовольствие силы и бессмыслия блестело на них, покой ночи и пищи был обеспечен для каждого темным могуществом их собственного количества. Они подошли к памятнику, и авангард толпы провозгласил хором приветствие — человеку, изображенному из бронзы, — а затем вступили в помощь работающим, и мусор поднялся от них с силой стихии, так что Лихтенберг почувствовал перхоть даже в своей душе. Другие тысячи и миллионы людей тоже топтали сейчас старую трудную землю Германии, выражая одной своей наличностью радость спасителю древней родины и современного человечества. Миллионы могли теперь не работать, а лишь приветствовать; кроме них, были еще сонмы и племена, которые сидели в канцеляриях и письменно, оптически, музыкально, мысленно, психически утверждали владычество гения-спасителя, оставаясь сами безмолвными и безымянными. Ни приветствующие, ни безмолвные не добывали даже черного хлеба, но ели масло, пили виноградное вино, кормили по одной верной жене. Сверх того, по Германии маршевыми колоннами ходили вооруженные армии, охраняющие славу правительства и порядок преданности ему, — и эти колонны немых, сосредоточенных людей ежедневно питались ветчиной, и правительство поддерживало в них героический дух безбрачия, но снабдило пипетками против заражения сифилисом от евреек (немецкие женщины сифилисом сознательно не болели, от них даже не исходило дурного запаха благодаря совершенному расовому устройству тела).