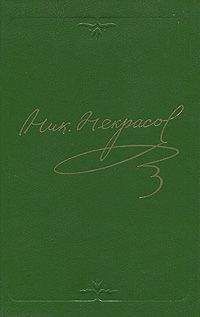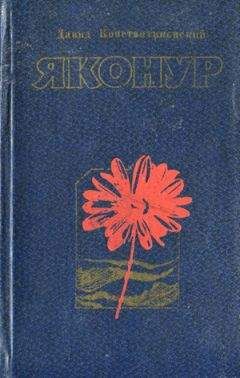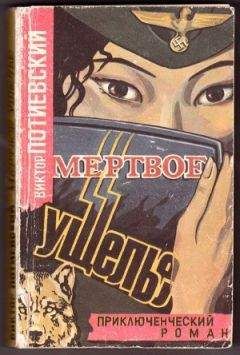Николай Некрасов - Том 10. Мертвое озеро
— Да у вас, вижу я, новость! — сказал однажды, заехав к ним, заседатель. — Как славно сараи выкрашены! Пестрота нынче вообще входит в моду, и ей придумали название: рококо!
Алексей Алексеич и Иван Софроныч промолчали, полные скромного торжества; но оба они заметили слово: рококо, и обоим оно чрезвычайно понравилось. И когда на другой день, выпив чаю и закурив трубки, вышли они на двор и остановились перед нововыкрашенным зданием:
— Рококо! — сказал Алексей Алексеич, любуясь своей выдумкой.
— Рококо! — лаконически отвечал Иван Софроныч.
И оба тихо и счастливо улыбнулись.
И с той поры часто Алексей Алексеич, любуясь дивным зданием или наслаждаясь эффектом его на проезжающих, вдруг улыбнется, оглянется и выразительно, протяжно произнесет:
— Рококо!
И в ту же минуту откуда-нибудь из амбара, чулана или погреба послышится в ответ ему такой же выразительный, мерный и счастливый голос:
— Рококо!
И он уже знает, как при этом улыбнется Иван Софроныч, и сам снова улыбается, как будто верный управляющий его находится перед ним.
В ту эпоху, когда мы знакомимся с Кирсановым и его управляющим, оба они были заняты чрезвычайно важным делом: происходил, по выражению Ивана Софроныча, «хозяйственный смотр».
Утром, часу в одиннадцатом, в жаркий летний день, Алексей Алексеич, в белом колпаке, защищавшем его седую голову от жаркого солнца, в зеленой распахнутой фуфайке, в серых брюках, обшитых снизу на ладонь кожей, — стоял перед своим небольшим деревянным домиком и усердно принимал и сортировал вещи, выкидываемые к ногам его из слухового окна невидимой рукой.
Алексею Алексеичу было уже лет шестьдесят, если не более, но старик был еще довольно бодр. Рост его был средний; волосы уже седы, но довольно густы; седые усы торчали кверху и придавали несколько суровый вид его красноватому добродушному лицу.
Посторонний наблюдатель, незнакомый с нравами и привычками хозяина, пришел бы в неописанное удивление, увидав такое обилие разнообразнейших вещей, в обозрение которых погружен был теперь Алексей Алексеич. Как будто двадцать семейств, одаренных самыми разнородными вкусами и потребностями, снесли сюда всё свое имущество, чтоб похвастать друг перед другом. Шубы, хомуты, седла, тазы, женские платья, валеные сапоги, пучки сушеных трав, картины, обломки железа и жести, детские игрушки, тетеревиные чучела и множество еще подобных вещей летело к ногам Кирсанова, который едва успевал отдавать приказания, что следовало выколотить, что проветрить, что вычистить, что просто выкинуть и так далее.
В то же время из растворенного сарая вывозили экипажи, зимние и летние, отличавшиеся необычайной ветхостию; из другого сарая, из амбаров выносилась сбруя, старая и новая. Из чуланов выносились сундуки с холстами и залежалым платьем.
Словом, выносилось, вывозилось и выбрасывалось всё, что только было в доме и в разных его закоулках.
Через весь двор, обнесенный сараями, амбарами и другими домашними службами, протянуты были веревки, отягченные всевозможными одеждами — малыми и большими, зимними и летними.
Дворовые люди, мальчишки и бабы, суетились по двору, перетаскивая вещи, выколачивая платья, тюфяки, перины, каретные подушки с таким рвением, что на дворе стоял постоянный гул, как будто били в набат, что, конечно, и казалось проезжающим мимо, к удовольствию наших друзей, которые нельзя сказать, чтоб не рассчитывали озадачить проезжающих выгрузкой всего своего имущества.
— Хорошенько, хорошенько! — командовал Кирсанов. — Эй, тетка! не ленись: выколачивай! Ну, приударь, приударь, дружней! Вишь, сколько пыли, — и откуда только она берется? А ты, Ферапонт, что зеваешь? Переверни-ка ее (шубу) теперь другой стороной к солнцу — пусть попрожарится!
В то же время он успевал подхватывать на лету вещи, летевшие из слухового окна. Кирсанов рассматривал их с любовью, над некоторыми задумывался; другие вызывали веселую улыбку на его губы, и он медленно покачивал головой. Пот лил с него градом.
— Уф, устал! — говорил Кирсанов, осмотрев старую медвежью шубу, под тяжестью которой могли бы подломиться плечи Ильи Муромца. — А славная шубенка! Ферапонт, бери-ка ее, да хорошенько!
Едва успел он разогнуть спину, как к ногам его полетели один за другим пучки сушеного зверобоя. Мгновенно окруженный тучею пыли, старик припрыгнул, сделал страшную гримасу и наконец разразился троекратным чиханьем.
— Желаю здравствовать вашему высокоблагородию! — раздался из слухового окна почтительный и озабоченный голос.
— Тьфу, проклятая трава! дрянь дрянью, а так в нос и лезет! — произнес Алексей Алексеич. — Это зелье, — продолжал он, обращаясь к слуховому окну, — я думаю, просто выкинуть, Иван Софроныч, а?
— Оборони бог-с выкидывать, — отвечал тот же почтительный голос сверху. — Полагаю, не имели бы такой мысли, если б изволили вспомнить, какую пользу она вам принесла, как весной вашему высокоблагородию грудь заложило.
— Новой насушим!
— Новая, может, еще с фальшем каким уродится…
— Умен ты у меня, Софроныч! — сказал Кирсанов. — Правда твоя: просто проветрить ее да и припрятать опять, — не пролежит места!
— А вот уж дрянь так дрянь, — сказал Иван Софроныч, всё еще невидимый, — заподлинно, с ней и сделать ничего лучше не придумаешь, как выкинуть. И на что вы изволили ее и купить-то? Даже мышь ее не берет. Лежит, лежит, а всё целехонька, пропадай она!
И вслед за тем к ногам Кирсанова полетела старая книга.
Кирсанов поднял ее, обдул, развернул. То был календарь 1796 года.
Прочитав заглавие, Алексей Алексеич залился продолжительным добродушным смехом.
— На что купил? — воскликнул он. — Эх, голова, голова! Велика голова, а мозгу мало… На что купил?.. Да делай мы всё такие покупки, так еще куда ни шло!.. А вот скажи-ка, мудрая голова, какая зима стояла в 1795 году?
— А как мне знать?
— Ну вот то-то же! А я так знаю!
Кирсанов отыскал страницу и прочел, какая зима стояла в 1795 году.
— Что, не будешь теперь спрашивать: на что купил? Не полезная небось вещь?
— Полезная, — отвечал Иван Софроныч пристыженным голосом.
— То-то же! Вот оно как: купить хорошую вещь, никогда оно не мешает; а чего и стоила-то? Я за нее, как теперь помню, двадцать шесть копеек дал, а еще в придачу взял бритву тульскую.
— Сточенную, — ввернул Иван Софроныч.
— …и греческую грамматику.
— Да на что вам греческая грамматика?
— А так всё думалось: может, женюсь — дети пойдут; пригодится!
— Полагаю, много денег изволили перевести, собираясь жениться, — вот хоть бы тогда девяносто рублей за коляску ввалили — всё думали: может, женюсь, жена будет модница, так вот — ход славный, колеса знатные, только отделать. А вот жениться не женились, а деньги отдали.
— А что ж и в самом деле? Небось дорого дал? Ведь ход и точно славный — один чего стоит! кому не надо, сто рублей даст!
— Хорош; только к нему нужно до тысячи прибавить, чтоб коляска вышла!
— Эх, Иван Софроныч! — с досадой перебил старик. — Не ты бы говорил, не я бы слушал. Досадно вот, что я устоял, не женился, как ты, — так вот и сердишься, попрекаешь коляской!
— Осмелюсь вам доложить, грешить изволите, ваше высокоблагородие! Женитьбой попрекнули! А кто подбивал! не сами небось? Не одна коляска — сколько платья было у вас женского тож накуплено! Я докладывал: «Эй, не извольте накупать, найдите прежде невесту». Так нет: «Бери, Софроныч: не пролежит места!» Да что и говорить! А вот как накупили да свалили всё в чулан, так сердце, бывало, переворачивается глядеть: лежит, гниет добро! Ничего, бывало, не изволите говорить, а ведь вижу, как оно болит у вас; а как сказали раз, да таким жалостным голосом: «Хоть бы ты, Софроныч, женился», так словно туману кто пустил в глаза. Мочи нет, жаль стало: что в самом деле гниет добро? Взял и женился… да только что же вышло?..
При этом воспоминании Иван Софроныч вздохнул, а Кирсанов добродушно улыбнулся.
— Стану я, говорит, — продолжал Иван Софроныч, подражая писклявому и раздражительному женскому голосу, — стану я, говорит, носить платье бог знает с кого: может, еще с покойницы; да нынче и моды такой нет! Вот и вышло, женился, а что проку?
Софроныч опять вздохнул. Кирсанов слушал, сдерживая смех, и наконец сказал таинственным голосом:
— Иван Софроныч, а Иван Софроныч! Федосья идет!
Иван Софроныч немедленно умолк, и слышно было, как он стремительно отшатнулся в глубину чердака.
Тогда Кирсанов громко захохотал.
— Полагаю, изволили пошутить, — заметил Иван Софроныч, приближаясь снова к слуховому окну.
И оба они усердно принялись за свою работу: один выкидывал вещи, а другой сортировал их и отдавал приказания. Жар усиливался. Кирсанов снял фуфайку и засучил рукава рубашки; но пот всё-таки лил с него градом.