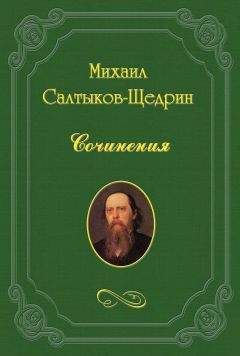Михаил Салтыков-Щедрин - Сборник
Мы переживаем время, которое несомненно представляет самое полное осуществление ликующего бесстыдства. Бессовестность, заручившись союзом с невежеством и глупостью, выбросила на поверхность целую массу людей, которые до того упростили свои отношения к вещам и лицам, что, не стесняясь, возводят насилие и хищничество на степень единственных жизненных регуляторов. Может быть, я ошибаюсь, но думаю, что такого нагло-откровенного заявления «принципий» давно не бывало. Прежде, даже в среде самых отпетых людей, можно было изредка расслышать слова вроде: великодушие, совесть, честь; нынче эти слова окончательно вычеркнуты из лексикона торжествующих людей. Прежде люди, сделавши пакость, краснели; нынче — те же люди краснеют только тогда, когда задуманная пакость не удалась. Может быть, в этой темной оценке современности (то есть торжествующей ее части) очень значительную роль играет мое личное чувство — чувство отживающего человека, — но, во всяком случае, я делаю ее искренно, и затем предоставляю читателю самому распутывать, сколько из приведенной выше характеристики принадлежит брюзжанью усталого старика, и сколько — действительности.
Но если даже такое обыкновенное слово, как «совесть», оказывается слишком тяжеловесным для современных диалогов, то какое же значение могут иметь слова более мудреные, как напр<имер>: любовь, самоотвержение и проч.? Очевидно, что единственная оценка, на которую можно в этом случае рассчитывать, — это хохот. Что-то отрепанное, жалкое, полупомешанное представляется: не то салопница, не то Дон-Кихот, выезжающий на битву с мельницами. И всем по этому поводу весело, все хохочут: и преднамеренные бездельники, и дураки.
Этот хохот наполняет сердце смутными предчувствиями. Сначала человек видит в нем не более как бессмысленное излияние возбужденных инстинктов веселонравия, но мало-помалу он начинает угадывать оттенки и тоны, предвещающие нечто более горькое и зловещее. Увы! предчувствия не обманывают. Хохот заключает в себе так много зачатков плотоядности, что естественное его тяготение к проявлениям чистого зверства представляется уже чем-то неизбежным, фаталистическим. Одним хохотом Дон-Кихота не проймешь, да он не удовлетворяет и самого хохочущего. Является потребность проявить себя чем-нибудь более деятельным, напр<имер>: наплевать в лицо, повалить на землю и топтать ногами, взять за волосы и бить головой об стену. Все эти действия суть видоизменения того же хохота, так сказать, естественное его развитие. Поэтому, ежели вам на долю выпало несчастие случайно или неслучайно возбудить хохот толпы, то бойтесь ее, ибо хохот не только не противоречит остервенению, но прямо вызывает его…
Как бы то ни было, но я могу сказать смело, что проявления совести, самоотвержения и проч. никогда не возбуждали во мне позыва к хохоту. Напротив того, я относился к ним скорее сочувственно, или, лучше сказать, опрятно… хотя и бессильно. Я понимаю, разумеется, что бессилие очень мало украшает человека, но поставьте все-таки мою доброжелательную опрятность рядом с теми деятельными формами и видоизменениями хохота, на которые я сейчас указал, и едва ли не придется согласиться, что в известной обстановке самое бессилие может претендовать на название подвига. Хохот не только жесток, но и подозрителен. Он не терпит никакой неясности, и ежели до поры до времени позволяет бессилию прозябать в темном углу, куда загнал его испуг, — то именно только до поры до времени, и притом в виде беспримерного снисхождения. Наступит момент (а может быть, уж и наступил), когда он прямо потребует, чтобы вся воинствующая армия была в строю и чтобы все нижние чины до единого смотрели не кисло, а бодро, весело и решительно. Это будет минута тяжкая и решительная. Человек недоумения, человек, жизненный девиз которого исчерпывался словами: ни зла, ни добра, — вдруг очутится если не прямо в положении Дон-Кихота, то, во всяком случае, в положении его попустителя. Покончивши с Дон-Кихотом, бессильного человека выведут пред лицо хохочущей толпы, прочитают его вины («смотрел кисло», «улыбался слабо» (а все-таки улыбался), не «наяривал», не «накладывал») и в заключение скажут: «Ты опаснее, чем Дон-Кихот, ибо настоящий Дон-Кихот, по крайней мере, всенародно гарцует, а ты забился в угол и оттуда втихомолку льешь потоки донкихотствующего яда»… Ведь хохоту-то по этому случаю, пожалуй, еще больше будет!
Имея в перспективе возможность такого момента, ужели я не прав, утверждая, что есть почва, на которой я могу примириться с своею совестью?
Я принадлежу к поколению, которое воспитывалось на лоне эстетических преданий и материальной обеспеченности. Конечно, и мы не всегда оставались верными чисто эстетическим традициям, но по временам делали набеги в область действительности… нет, впрочем, не туда, а скорее в область униженных и оскорбленных. Но, под прикрытием обеспеченности, эти набеги производились словно во сне, без строгой последовательности, порывами, которые столь же быстро потухали, как и зажигались. Много вышло из этой школы проходимцев и негодяев, но довольно и просто опрятных и неумелых людей. Проходимцы оказались живучими, неумелые — как и следовало ожидать — вымирают, ибо набеги в область униженных и оскорбленных, несмотря на свою платоничность, все-таки не прошли для них даром. К числу вымирающих принадлежу и я.
Я сижу в своем углу и разнемогаюсь. Гордиться тут нечем, но самый факт вольного умирания, ввиду легкой достижимости торжества, есть уже признак, перед которым должно умолкнуть резкое слово осуждения.
Поймите, что ведь торжествовать, то есть хохотать, плевать в лицо, наяривать, хватать за горло, — все-таки материально выгоднее, нежели умирать в твердой памяти собственного бессилия.
Сверх того, я могу назвать три особенности, которые проходят через очень значительную половину моего существования и которые, по сущей справедливости, должны быть мне зачтены.
Особенность первая: тоска. Тоскливое чувство — и притом не напускное, а совершенно искреннее — с давних пор составляет господствующий тон моей жизни. Современная вакханалия бесстыжества не пробуждает во мне не только стремления участвовать в ней, но даже любопытства узнать причины этого явления: она просто утомляет меня, поселяет чувство уныния.
Я не желаю быть ни железнодорожным деятелем, ни кабатчиком, ни добровольцем, ни адвокатом, ни даже присяжным заседателем… воистину не желаю, не хочу! Какая-то щемящая унылость, сопровождаемая полным отсутствием естественности и искренности, слышится мне и в базарном гвалте, и во всех бряцаниях, составляющих внешнюю обстановку современной хищнической свалки. Фальшиво, неинтересно, даже просто глупо. Уйти из этой свалки, забиться подальше в незнаемую раковину и там, ничего не видя и не слыша, предаваться угрызениям тоски, — вот единственный иск, который я предъявляю к жизни, единственное желание, которое мне удалось формулировать с достаточною ясностью. Потому что, если я, с одной стороны, не хочу торжествовать, то с другой — не могу и не умею самоотвергаться. Не могу! не умею! Это не претензия на оправдание, а факт. Бремя эстетических традиций и обеспеченности так тяжело и плотно легло на мою спину, что я уж давно не имею силы ее разогнуть.
Я сказал выше, что в жизни моей бывали случаи (даже довольно частые), когда я посещал область униженных и оскорбленных; я охотно посещаю ее и теперь. Но ведь это-то самое и есть тоска. Что-то несомненно вызывающее все симпатии моей души мелькает предо мною, но что именно — я различить не могу. Что-то требует моей помощи, но в чем должна состоять эта помощь и как она может быть подана, — я и на это ответить не умею. «Не могу!» и «не умею!» — мучительно повторяю я себе, и только одно сознаю вполне отчетливо: что все мое существо преисполнено безмерной тоской.
Я смотрю на факты самоотвержения и боюсь применить к ним какую-нибудь оценку. Мне сдается, что я не понимаю их и что, во всяком случае, если я начну говорить об них, то буду говорить совсем не об том. Выйдет не самоотвержение, а нелепый водевиль с переодеванием, что-то вроде «La fille de Dominique».[23] Никто не прельстится моими изображениями, воспроизведениями и описаниями, но всякий, даже снисходительный человек скажет: вот старый бесстыдник, у которого седой волос из всех щелей лезет, а он и за всем тем не чувствует потребности обуздать себя! вот неопрятный болтунище, который до преклонных лет не может очнуться от экскурсий в область униженных и оскорбленных, которыми он некогда сдабривал свое пребывание на лоне водевильного эстетизма и обеспеченности!
Я боюсь этих приговоров, не потому, что они могут оскорбить мое самолюбие, а потому, что в них слышится правда. Другие птицы — другие песни! говорю я себе и стараюсь, во всем, что касается оценки этих других песен, по возможности обуздывать себя, или, много-много, предаваться по поводу их опрятной тоске. Я соглашаюсь вперед, что это тоска бесплодная и даже не совсем ясно мотивированная, но содержание ее, несмотря на неясность, настолько все-таки доброкачественно, что отказ в принятии его к зачету был бы воистину несправедлив.