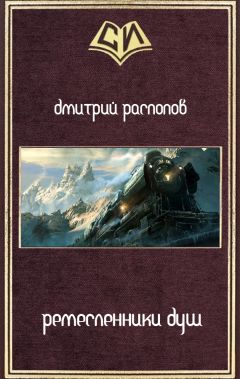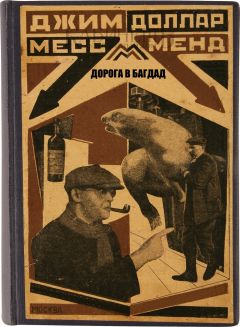Мариэтта Шагинян - Своя судьба
О, да, да, все решительно довольны. Признаки улучшения в состоянии больных налицо. Никаких воздействий на них не оказывается. Обращение более чем корректное. Многие укрепили и выработали характер. Готовы к жизни. Почувствовали охоту к ней. Ни на какой другой метод они фёрстеровский не променяют. Лечились по нескольку лет у других профессоров и ничего, кроме шарлатанства, не находят. Их задерживали, тянули с них деньги, и в результате никакой пользы не оказывалось. Фёрстер — человек идеи. Он никого не держит больше года, и посмотрите, как все здоровеют, как все здесь внутренно заняты, как успешно побеждают болезнь в такой короткий срок.
— Но, однако, я слышал, что некий Лапушкин покончил здесь самоубийством? — медленно спросил Мстислав.
Пациенты смутились было, но пациентки ни капли. Особенно энергично выступила Дальская:
— Помилуйте, он был застарелый эротоман! У него на голове волос не было (она покосилась на розовый череп Мстислава). В такие годы разве излечиваются?
— Но на похоронах было допущено даже, э-э-э, какое-то одобрение из уст, э-э-э, священнослужителя?
— Помилуйте, какое же одобрение? Батюшка пригласил нас молиться за его душу…
Так и не мог добиться Мстислав ничего потребного для его цели. Он уже повернулся, чтоб идти назад, топыря свои обтянутые ножки, словно на них были не гетры, а петушиные перья, как вдруг взгляд его упал на Ястребцова.
— А вы, милсдарь, были все время, э-э-э, заняты и ничего мне не сказали.
— Мне нечего говорить, — сухо ответил Ястребцов, нагибая голову к дереву. В лице его была тревога. Он ни на кого не смотрел.
— Но, однако? Вы извините меня, если я вас беспокою… — И Мстислав расположился возле столика самым прочным образом, упершись в него локтями. Он заговорил о том о сем — вплоть до выпиливания по дереву. И первое время все шло благополучно. Ястребцов отвечал с неохотой, но добросовестно. Я заметил в нем необычную терпимость. Веки его дергались от раздражения, но он не сказал Мстиславу ни одного невежливого слова.
— Сохранилась ли, э-э, здесь этнографическая… этнографическая интимность, какую я наблюдал несколько лет назад?
— Этнографическая интимность? — Ястребцов поднял голову и вопросительно взглянул на Мстислава.
— Ну да, кумовство с кавказскими народностями.
— Право, не знаю… впрочем, я слышал (Ястребцов беспомощно оглянулся вокруг, и лицо его судорожно передернулось) еще по дороге сюда о патриархальной манере нашего профессора. Он по-своему духовно опекает горцев, дает советы, помогает, вразумляет… Дочь его ходит за больными детьми, электрическая станция его работает на весь аул.
— Ну, а пробовал ли профессор просвещать их… э-э-э… в духе православного исповедания?
— Да ведь он сам не православный, кажется! Нет, религии их он не касался. Он даже одного недовольного, Уздимбека или Уздимбея, снова примирил с его религией.
— Обратно в магометантство? Любопытнейшая, э-э, деталь.
Я взял было Ястребцова под руку и попытался вставить от себя слово, но Ястребцов судорожно выдернул руку и продолжал говорить. Он рассказал о меланхолии Уздимбея, о его отказе совершать намаз, о его равнодушии к своим обязанностям; о том, как профессор устроил ему «живую притчу» и вразумил его, посоветовав «воздать честь аллаху», и как после этого Уздимбей снова стал правоверным. Словом, весь рассказ бедного фельдшера, выслушанный мною из-за стены, был перевернут, перевран, использован губительнейшим для Фёрстера образом. Я стоял, чувствуя, что бледен от гнева. Я энергично прервал Ястребцова и постарался описать факты в истинном их свете, но меня никто не слушал. Скрипучий голос Ястребцова перешел постепенно в хрип. И вдруг, как тогда у меня в комнате, он сразу замолк, повернулся и вышел от нас, автоматически шагая вперед.
Мстислав боялся чересчур выказать свою радость. Он покрутил пуговки, поиграл лорнеткой. Мы обошли еще несколько больных, но больше для виду. Приближался обеденный час. Мой спутник вышел из санатории, величественно приказал камердинеру готовить коляску и проследовал в профессорский домик.
А там все уже было готово к обеду. Варвара Ильинишна, скрепя сердце и, быть может, надеясь подействовать на Мстиславову совесть, принялась за хозяйские обязанности. Стол был сервирован празднично. Дунька надела кружевной чепчик. Когда мы появились в дверях, на стол была поставлена дымящаяся голубая миска с супом.
— Пожалуйте, — начала было профессорша.
Но Мстислав махнул ручкой и обвел всех глазами. Он торжествовал. Он уже не мог таить ликования, оно так и прыгало у него по всей физиономии, пробивалось из всех ее щелей.
— Merci, не беспокойтесь! — начал он медленно. — Зачем столько беспокойства? Я должен, э-э, тотчас же ехать и поем в Сумах. Долг службы прежде всего. Уважаемый господин Фёрстер, я хочу поставить вас в ясность… э-э… всего случившегося.
Фёрстер вышел из своего уголка. Он не сел и не попросил сесть Мстислава.
— Д-дэ, к сожалению, факты неопровержимы. Вот уже целый год, как в сферах были озабочены некоторыми… некоторыми слухами о недостаточной вашей лояльности. В настоящее время, вы понимаете, долг каждого из нас — предотвращать опасность. Я лично, э-э, всегда защищал вас, рискуя своей репутацией патриота, но, к сожалению, должен убедиться, что был неправ, вполне не прав. Я отверг слухи и требовал фактов. И вот пришли факты, фактики, фактишки, наконец, целая совокупность фактов. Рассмотрим их. Я патриот, милсдарь. Я сознаю, что, когда мое отечество воюет с, э-э, с полумесяцем у себя на юге, и с, э-э… с юнкером на западе, то всякое проявление внимания к мусульманским народностям со стороны лица… не будем скрывать фактов!.. лица германского происхождения должно быть оценено как предательство. По предметность, предметность прежде всего! Я не хочу быть голословным, я буду предметен. Разберем случай с горцем Уздимбеем. Человек переживает внутренний кризис. Он явно… э-э… явно даже для посторонних, отстраняется от обрядов своей веры, усомнившись, конечно, в их целесообразности! Я враг духовных насилий. Но когда человек сам стучится в ворота… э… ворота спасения, я, как православный и патриот, усмотрю в этом символ, указание, государственную задачу! Сегодня один, завтра другой! И что же делает единственное здесь лицо, призванное силой вещей к патриотическому поступку, лицо, облеченное доверием, имеющее связи… Оно — я не могу удержаться от горького изумления, — оно вдруг говорит: воздай честь аллаху! И это говорит христианин, и в такую минуту, и усомнившейся душе!
Мстислав увлекся своим красноречием. Фёрстер слушал безмолвно. Голубая миска стынула.
— Прискорбно, профессор, прискорбно, и я рад был закрыть глаза и уши, чтоб не узнать этого. Но… дела ведутся деловым образом. Дела ведутся деловым образом! Я вынужден предупредить вас, что по окончании вашего дела в суде, ибо оно поведется судебным порядком, вас, вероятно, сошлют. Семье вашей, надо надеяться, не придется страдать за вашу оплошность. Я употреблю все свое влияние… О дальнейшем вы будете извещены.
Он сделал общий поклон и пластически повернулся к дверям, но выходу его слегка помешала кошка Пашка, застрявшая у него в ногах. Споткнувшись, вышел он наконец вон, сел в коляску и… но тут подскочил к нему Зарубин, выпустивший своего тигра наружу. Мстислав изменился в лице.
— Сволочь, — отчетливо проговорил мой коллега, глядя прямо на ревизора и, размахнувшись, ударил его по лицу. Кучер тронул вожжи, как будто удовлетворившись означенной экзекуцией, и Мстислав скрылся из виду, прежде чем мог возвратить полученное.
А в столовой все еще царило безмолвие. Варвара Ильинишна, белее скатерти — новой скатерти, постланной для гостя, — глядела на мужа. Маро, неподвижная, стояла у печки. Лицо ее горело, как лицо отца. Она была уверена, что «па не допустит и победит». Фёрстер действительно не собирался «допустить».
— Мамочка, сядьте, кушайте! — сказал он, подходя к жене и дочери.
— А ты, голубчик?
— И я приду. Только сбегаю к больным…
— Карл Францевич, не будь Ястребцова, не нашел бы он ни одного фактика, — вырвалось у меня наконец с отчаянием. — Знал я, что он нас предаст, сочинит какую-нибудь гадость! — И я, в бессильной ненависти, рассказал ему все, слово в слово, что произошло в мастерских. К моему удивлению, Фёрстер побледнел и встревожился.
— Вы говорите, повернулся и ушел? Как тогда? И больше вы его не видели? Ах, боже мой, несчастный!
Он схватил шляпу с гвоздя.
— Сергей Иванович, идите, идите со мной! Мамочка, я сейчас, кушайте суп без меня!
И прежде чем я мог понять его беспокойство, он отправился в санаторию. «Несчастный, несчастный», — повторял он по дороге сквозь зубы. Мы почти бежали, прошли переднюю и, узнав, что Ястребцов у себя, поднялись на третий этаж.