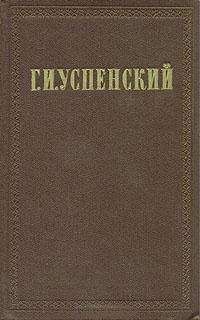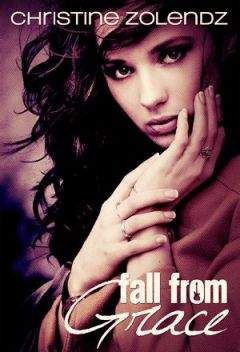Глеб Успенский - Том 3. Новые времена, новые заботы
Протест большинства присутствовавших за клубным столом лиц, усумнившихся было в действительности существования в русском человеке странной любви к палке, был заглушён все более и более разгорячавшимся фельетонистом помощью усиленной торопливости, с которою он перешел к новому ряду доказательств, не дав хорошенько разобрать и обдумать только что сказанное. Коснувшись сербской войны и объяснив эту русско-сербскую толкучку именно тем, что тут соотечественники пытались попробовать сделать дело сами, без указки и без палки, и не дав по обыкновению никому возразить, он тотчас перешел к ежедневным явлениям современной жизни и стал выхватывать одни примеры за другими. По его словам, неуменье жить без неприятностей видно повсюду. Он знал супругов, которые не могли ужиться при самых благоприятных обстоятельствах и отлично жили при неблагоприятных. Вот образцовая пара: оба добрые, умные люди, оба сошлись не из расчета, а по любви, и согласны по мысли… И что ж, скука, тоска, холод… Ни одно дело не удается, ничто впрок нейдет. Разошлись наконец. И глядишь: сошелся супруг просто с немкой Каролиной Карловной, у которой только одни потребности: иметь на руке мешок с деньгами и елико возможно больше извлекать этих денег из всего мироздания, — и все пошло как по маслу. Каролина Карловна каменной тучей своего грубейшего непонимания висит над человеком, над его развитием и умом; человек этот ропщет, но ожил, бегает по вселенной, «достает» и уж, поверьте, никогда не уйдет от этой каменной тучи. «Сам», своею охотою не уйдет. Потому что бессмысленные, нестерпимые условия, в которые попал человек, благодаря этой женщине с каменными мозгами и сердцем, он считает подлинными, заправскими, а доброту, ум и простоту прежней привязанности считает только сном детским, из которого ничего не выйдет и с которыми страшно и холодно жить на свете. Не запряженный, пущенный на волю русский человек пропал, погиб в большинстве случаев, и единственное спасение ему — крепкие оглобли, тяжелый воз… Так привык, так заезжен. Продолжая не слушать возражения собеседников, тщетно спрашивавших: «при чем же тут самоубийство?» — автор теории любви к палке выдвинул еще новое наблюдение: именно, он сказал, что даже так называемые новые идеи и дела для многих-многих россиян важны и значительны только как бремя, как упряжка, как постоянная борьба с самим собой, постоянное мучение, испытываемое в этой борьбе, происходящей от полного разногласия всего существа субъекта с требованиями новых идей. Иной и рвется к ним, потому что исповедывание их почти для него невозможно… В подтверждение этого положения он рассказал про одну девушку, долго и безуспешно отбивавшуюся от своего истинного призвания — быть хорошей хозяйкой и матерью многочисленного семейства, забывавшей в один день все, что выдолблено ею в год, вроде экзамена на сельскую учительницу, и никогда не выучившейся понимать и различать общественные дела от необщественных. Нужно было видеть, что это была за мученица! Она едва не умерла, как вдруг вышла замуж, родила ребенка и расцвела, то есть все забыла и стала тем, чем должна была быть, влача иное, свойственное ее натуре бремя хозяйства и домоводства. Рассказал он еще и про одного мужчину, своего товарища по гимназии, который отдался новым идеям, тоже как будто с испугу и тоже потому, что в натуре и существе его именно и не было ничего нужного для того, чтоб идеи эти были живыми в живых людях. Испугавшись раз, в первые дни приезда в круг молодежи одного провинциального университета, он уж стал потом все делать с испугу и поступал во всем против собственных желаний. Женился потому, что жена решительно ему не нравилась, и потому, что именно это обстоятельство (жена была из новых) делало его причастным к тем кружкам, идеи которых были для него почти невозможны… Словом, человек этот, раз узнал, что в нем нет материала для исповедывания новых идей, испугался самого себя и стал поступать против себя во всем.
Собеседникам показалось все это до такой степени трудно постижимым и неудобоваримым, что несколько голосов нашли нужным прервать рассказчика вопросом: «Да при чем, наконец, тут самоубийство? Зачем вы приводите таких уродов, идиотов и глупцов?» Фельетонист, очевидно хвативший в последовательности своих наблюдений через край, категорически объявил однако, что этих глупцов, этих людей, желающих ярма, так много на русской земле, что изучение странной любви к ярму можно считать достойным внимания образованного российского общества и что к самоубийствам все вышесказанное также имеет отношение довольно близкое, именно: самоубийством непременно должен кончить всякий из таких умеющих жить в ярме, как только жизнь поставит его в необходимость почерпать силу жизни в собственном желании и мысли. Такой человек в такие минуты с ужасом видит, что в нем нет источника жизни и почерпать не из чего. Умирают такие люди собственно «от испуга»… самих себя.
Этими словами, показавшимися всем похожими на правду, наблюдатель окончил изложение своих наблюдений, залпом выпил стакан вина и обещал все это разработать в своем фельетоне, прибавив:
— Вот тогда увидите…
— Нет, — перебил его медицинский студент: — я вот чего не понимаю… Я не понимаю, как можно умереть с голоду… Мне понятно, что в минуту отчаяния, испуга, как вы говорите, молено пустить пулю, принять яду, но морить себя десять, пятнадцать дней голодом, умереть от самовольного истощения — этого я не понимаю… Какой тут испуг? Вообще, я не понимаю тут ни капли…
— Болезненное состояние… — произнес было банковский чиновник…
— Я об этом не говорю; я спрашиваю только: каким путем доходят до этого состояния?..
— Тоже от испуга… — нерешительно произнесла сестра студента, сельская учительница.
Это была одна из тех много думающих, но робких девушек, которые в редких случаях, и то вспыхнув от сознания неловкости, решаются произнести свое словечко.
Обыкновенная форма разговора этих натур такая: «Мне кажется… я думаю…» Начнет она — и тотчас замолчит. «Говорите же, что вы думаете?.. Говорите пожалуйста». — «Нет, я так… Я ничего не понимаю…» — «Что за вздор! как ничего не понимаете?.. Говорите, ради бога». — «Я думаю… Нет, я дура…»
И только после многих ободрительных слов, большею частию в ту минуту, когда уж и не ждут никаких от нее объяснений, она вдруг выскажется торопливо, кратко и верно.
Так было и на этот раз. Все присутствовавшие знали, что словечко, сказанное этой девушкой, не будет пустым, и разом налегли на нее с требованием сказать, что именно она думает, когда на замечание брата о том, что ему непостижимо, кого и чего можно так испугаться, чтобы морить себя голодом, мучить самым жестоким образом, вместо того чтобы пустить пулю в лоб, она ответила обычным порядком, то есть начала словами: «мне кажется», и кончила тотчас выражением: «нет, я так… я не понимаю…» После усиленных и всеобщих настояний из этого молчаливого существа было извлечено мнение, что с голоду умирают, испугавшись — «всех» и «всего…», то есть и себя и всего белого света: кроме этого, она сказала, что знала одного человека, который именно так и умер, и, поводимому неизвестно зачем, прибавила: «Он был крестьянин…»
— Ну, — перебил ее брат: — положим, это-то… уж ничего не значит…
— Нет, значит… Я знаю, что такое деревня и крестьянская жизнь… Ни для кого так не страшна действительность, как для крестьянина… В его жизни нет прикрас и снисходительности ни в чем… Все — от неба, которое хлынет градом, от земли, которая не уродит, до отца и брата, которые не пощадят его, если не будут сами пощажены, — все может раздавить его в мгновение…
— Ну, рассказывай лучше, — перебил брат. — Кто такой это твой знакомый… Рассказывай все обстоятельно…
Запинаясь и конфузясь поминутно, девушка рассказала одну очень простую историю, которую я и записал так, «как понял», не ручаясь за точность и подлинность выражений.
На Оке, в одной деревеньке, где останавливаются пароходы, на краю селения, много лет тому назад жила солдатка с маленьким сыном. Жили они у самого берега, в нищенской лачужке и в страшной бедности: ни кола, ни двора, ни куриного пера… Чем жила эта женщина? Некрасивая, худая и оборванная, ходила она на поденщину, на поденщину деревенскую, где гривенник за целый день — деньги громадные… Когда же приходили барки и заночевывали в деревеньке, в хибарке солдатки слышались гармония и песни: пели и веселились такие же, как она, нищие люди, бурлаки… Такие грехи солдатки, весьма понятные в ее положении и случавшиеся только ради ее крайней бедности, грехи, дававшие ей возможность только-только не умереть с голоду, однако ставились ей строгим деревенским крестьянством в вину и даже вредили ей в поденной работе…
Долгие годы билась она так, как рыба об лед, работая и голодая, гуляя с бурлаками и тоже голодая, и никогда не имела ни средств, ни времени ходить за своим ребенком. Рос он без всякого призора, голодный, буквально раздетый, вечно выброшенный на улицу: на улице ёрзал он, когда у матери пили и гуляли гости; на улице торчал, когда она где-нибудь мыла полы, или стирала, или работала какую-нибудь другую поденную работу. И тут и там он мешал, корявый, неуклюжий и совершенно дикий. Он мешал даже и в детской компании — его гнали прочь, потому что он всему завидовал и тянул к себе, а когда не давали, то ревел. Ни о чем никаких понятий он не имел: не было ни одного человека, который бы сказал ему слово. Всем было видно, что ни матери его, ни ему жить нечем. И вот жестокая русская действительность: ни в чьем внимании, ни в чьей заботе ни он, ни мать не занимали ни капельки места.