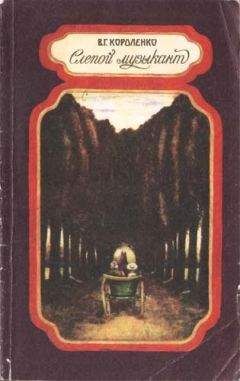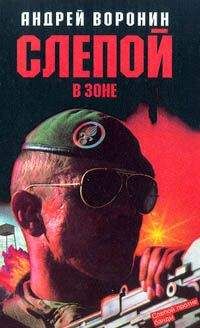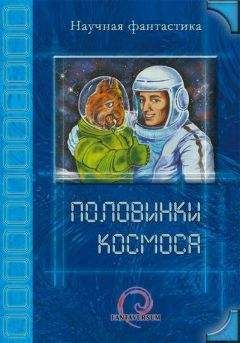Владимир Короленко - Том 1. Рассказы и очерки
Что за дело! Солнце садится, и отдых близок! — вот что слышалось Семенову в голосе вожака арестантской партии.
Молодой человек ускоренной, но ровной походкой обогнал телеги и подошел к Федору.
— Скоро придем? — спросил он.
— Недалече, — ответил Федор. — Вот в эту падушку[25] спустимся, да опять на узгорочек подымемся. Там от кривой сосны за поворотом всего полверсты будет.
— Да уж Бесприютный знает, — льстиво заговорил тот же чахлый арестант, поспевший за барином. — Чать, Бесприютному этой дорожкой не впервой иттить.
Арестант, очевидно, хотел польстить опытному бродяге, но суровое лицо Бесприютного с резкими чертами, с морщинами около глаз осталось таким же неподвижно суровым. Он осматривал внимательным взглядом свою ватагу. Он знал, конечно, что в партии, которую он вел, не может быть побега. Он дал слово начальнику, партия дала слово ему. Ценой этого слова партия покупает известные вольности: возможность по временам снимать кандалы, зайти вперед, прилечь в тени, пока подойдут остальные, отправить в какую-нибудь деревушку, в стороне от тракта, несколько человек за сбором подаяния и т. д. И, дорожа этими вольностями, арестанты свято блюдут данное слово, строго следя друг за другом. Но, не опасаясь побегов, Бесприютный боялся, что «шпанка» разбредется по лесу, пожалуй, кое-кто заблудится и отстанет, и таким образом партия явится к этапу не в полном составе. А этого он не любил. Он дорожил своею репутацией; ему было бы неприятно, если бы про Бесприютного сказали, что у него в партии беспорядок.
Но этого не случилось; все были налицо; вот, звеня кандалами, подходят «каторжане»; громыхая, подъезжают подводы с женщинами и детьми; сгрудившись плотной кучей, всходят на пригорок пешие арестанты. И Бесприютный, окончив осмотр, опять двинулся вперед своей развалистой, характерной походкой бродяги.
Шестьдесят верст «на круг» в сутки — такова была эта походка. Так идет человек, у которого нет ближайшей цели. Он не торопится, чтобы прийти до ночи, чтобы не опоздать к обедне в храмовой праздник, чтобы поспеть к базару. Он просто — идет. Дни, недели, месяцы… По хорошей и по дурной дороге, в жару и слякоть, гольцами и тайгой, и ровною Барабинскою степью бродяга все идет к своей неопределенной далекой цели… Он не торопится, потому что торопиться всю жизнь невозможно. Самое страстное, самое горячее стремление в эти долгие месяцы и годы уляжется в привычные, размеренные, бессознательно рассчитанные движения. Туловище подается вперед, будто хочет упасть, но следующий шаг несет его дальше, и так, покачиваясь на ходу, уставившись перед собой глазами, согнув спину с котелком и котомкой, отмеривает бродяга шаг за шагом эти бесконечные и бесчисленные версты… Эта ровная, неторопливая, хотя и довольно быстрая походка входит в привычку, и теперь, когда Семенов смотрел на фигуру шедшего впереди Бесприютного, ему виделось в этой сгорбленной фигуре что-то роковое, почти символическое. Молодой человек опять кивнул головой. «Понимаю, — подумал он, — выражение этой походки состоит в том, что человек не идет по своей воле, а как будто отдается с полным фатализмом неведомому пространству».
Серые халаты с тузами и буквами на плечах вообще нивелируют всю эту массу. В первое время свежему человеку все эти люди кажутся будто на одно лицо, точно бесконечное повторение одного и того же тюремного экземпляра. Но это только первое время. Затем вы начинаете под однообразной одеждой замечать бесконечные различия живых физиономий; вот на вас из-под серой шапки глядят плутоватые глаза ярославца; вот добродушно хитрый тверитянин, не переставший еще многому удивляться и та и дело широко раскрывающий голубые глаза; вот пермяк с сурово и жестко зарисованными чертами; вот золотушный вятчанин, прицокивающий смягченным говором. Вы начинаете различать под однообразной оболочкой и разные характеры, и сословия, и профессии — все это выступает, точно очертания живого ландшафта из-под серого тумана.
Но, смотря на Бесприютного, трудно было решить — что это за человек, кем был он раньше, пока не надел серого халата. Тогда как на большинстве арестантов казенное платье сидело как-то неуклюже, не ладилось, топорщилось и слезало — на Бесприютном все было впору, сидело ловко, точно на него шито. Большие руки, дюжая фигура, грубоватые движения… как будто крестьянин. Но ни одно движение не обличало в нем пахаря. Не было заметно и мещанской юркости, ни сноровки бывшего торговца. Кто же он? Семенов долго задавался этим вопросом, но наконец теперь, поняв по-своему «выражение» его походки, он решил, что перед ним бродяга.
Бродяга — и ничего больше! Все характерные движения покрывались одной этой бродяжной походкой. Глаза Федора глядели не с мужицкой наивностью, в них заметна была своего рода интеллигентность. Ни роду, ни племени, ни звания, ни сословия, ни ремесла, ни профессии — ничего не было у этого странного человека. Он, как и мальчишка, с которым Семенов только что беседовал, пошел в Сибирь за отцом, бывшим крестьянином. Рос он дорогой, окреп в тюрьме, в первом побеге с отцом возмужал и закалился. Тюрьма и ссылка воспитали этого человека и наложили на него свой собственный отпечаток. Пройти столько, сколько прошел бродяга, видеть стольких людей, скольких он видел, — это своего рода школа, и она-то дала ему этот умный наблюдательный взгляд, эту немужицкую улыбку. Но эта школа была трагически одностороння: люди, которых он изучал, были не те, что живут полной человеческой жизнью; это были арестанты, которые только идут, которых только гонят. Правда, во время бродяжества он сталкивался и с сибиряками, живал по деревням и на заимках. Но опять и тут настоящая жизнь для бродяги была закрыта. Его дом — не изба, а баня на задах; его отношения к людям — милость или угроза. Он знал, в какой стороне чалдон живет мирный и мягкосердный; в каких деревнях бабы ревут ревмя, заслышав заунывный напев «Милосердной»[26], и где бродяге надо идти с опаской; знал он, где для бродяжки готов хлеб «на поличке» и где встретят горбача винтовкой. Но жизнь семьи, круговая работа крестьянского года, житейские радости, печали и заботы — все это катилось стороной, все это миновало бродягу, как минует быстрое живое течение оставленную на берегу продырявленную и высохшую от солнца лодку.
Эти характерные бродяжьи черты в Федоре Бесприютном соединились с замечательной полнотой, и немудрено: ведь он не знал другой жизни — жизнь сибирской дороги владела его душевным строем безраздельно. Но, кроме этих характеристических черт, было в фигуре Бесприютного еще что-то, сразу выделявшее его из толпы. Каждая профессия имеет своих выдающихся личностей.
Бесприютный представлял такую личность бродяжьей профессии. Каторжная, скорбная дорога овладела в его лице недюжинной, незаурядной силой.
В волосах Федора уже виднелась седина. На лбу прошли морщины; резкие морщины обрамляли также глаза, глядевшие из глубоких впадин каким-то особенным выдержанным взглядом. Казалось, человек, смотрящий этим странным взглядом, знает о жизни нечто очень горькое… Но он таит про себя это знание, быть может сознавая, что оно под силу не всякому, и, быть может, именно в этом сдержанном выражении, глядевшем точно из-за какой-то завесы на всякого, к кому обращался Федор Бесприютный с самыми простыми словами, скрывалась главная доля того обаяния, которое окружало вожака арестантской партии.
— Бесприютный знает! Бесприютный зря слова не скажет, — говорили арестанты.
И каждое слово человека, глядевшего этим спокойным, сдержанным, знающим взглядом, приобретало в глазах толпы особенную авторитетность. Ко всякому самому простому слову Федора (он был вообще неразговорчив), кроме прямого его значения, присоединялось еще нечто… Нечто неясное и смутное прикасалось к душе слушателя, что-то будило в ней, на что-то намекало. Что это было, — слушатель не знал, но он чувствовал, что Федор Бесприютный что-то «знает»… Знает, но не скажет, и поэтому в каждом его слове слышалось нечто большее обыкновенного смысла этого слова.
В лицо он знал в партии всех, но друзей и товарищей у него не было. Ближе других сошлись с ним два человека, но и с теми соединяли его особые отношения. Первым был старый бродяга, Хомяк, вторым — барин.
Бродяга Хомяк был дряхлый старик. Сколько ему было лет — сказать трудно, но он не мог уже ходить и «следовал» на подводе. Одна из телег, именно та, на которой помещался старик, служила предметом особенных попечений старосты. Он сам настилал в ней солому, прилаживал сиденье, сам выносил с этапа и усаживал старого бродягу. В продолжение пути он то и дело подходил к этой телеге и подолгу шел рядом с нею. Никто не слышал, чтобы они разговаривали друг с другом. Бесприютный только пощупывал сиденье и шел, держась за переплет телеги. Хомяк сидел, свесив ноги, боком к лошадям и смотрел неизменно перед собою неподвижным взглядом. Его руки лежали на коленях, ноги бессильно болтались, спина была сгорблена. Густая шапка только наполовину седых волос странно обрамляла темное обветренное лицо, на котором тусклые глаза совсем терялись, что придавало лицу выражение особенного бесстрастия. Картина за картиной менялись, появляясь и исчезая, но эти выцветшие глаза смотрели на все одинаково равнодушно. Старик мог видеть и слышать, но как будто не хотел уже ни глядеть, ни прислушиваться. Он мог говорить, но до сих пор Семенов ни разу еще не слыхал звуков его голоса. От всей фигуры веяло каким-то замогильным безучастием; не было в ней даже ни одной черты страдания: в холод и жар, в дождь и непогоду он сидел одинаково сгорбившись и по временам только постукивал пальцем одной руки по другой. Это было единственным проявлением жизни в этой старчески невозмутимой фигуре.