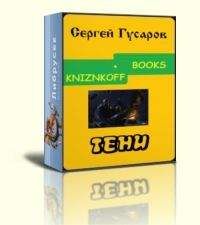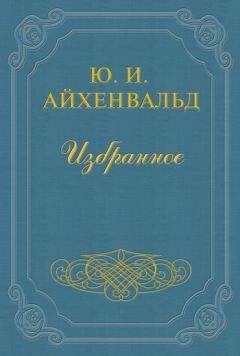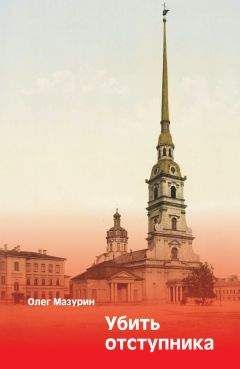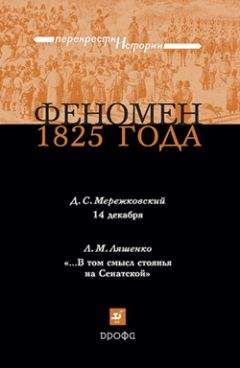Сергей Терпигорев - Потревоженные тени
— Нет, у меня там... после об этом поговорим, — скороговоркой ответил дядя.
Они говорили все время по-французски, так что при слуга все равно их не могла бы понять, но тут сидели мы, дети, и потом гувернантка, и он, очевидно, не хотел сказать чего-то и при нас...
Матушка с отцом многозначительно переглянулись.
Затем заговорили о чем-то совсем другом — о Петербурге, о смотрах, о парадах, о войне, которую все ожидали тогда[33] и которой все волновались и у нас.
Когда обед кончился и все встали, отец с дядей ушли в кабинет; вскоре за ними пошла туда и матушка, а нас гувернантка увела играть в нашу детскую.
II
К чаю, то есть к восьми часам, мы уж «отучились», за нами, звать нас, пришел посланный от матушки казачок Гришка, и мы отправились в «угольную», где обыкновенно подавался вечером самовар.
— А дядя не уехал? — спросил я Гришку. — Где он, в «угольной»?
— Точно так-с.
Анна Карловна только посмотрела на меня и повела плечами: она терпеть не могла никаких наших обращений с расспросами к прислуге. Но раз мы уж «отучились» вечером и нас позвали пить чай, Анна Карловна с своим авторитетом обыкновенно отходила у нас в соображениях на задний план: мы вступали в непосредственное, так сказать, общение с матушкой и отцом — положение, несравненно более приятное и удобное для нас. А тут еще дядя приехал, стало быть еще вольготней будет... Я поэтому, как только вышел из детской, побежал, бросив и сестру и Анну Карловну. Но только я показался в столовой, как сейчас же заметил по лицам отца и матери и по странной улыбке дяди что-то неладное. Матушка, когда говела, обыкновенно ходила всегда с постной физиономией, делалась не то чтобы не в духе, а как бы переносящей какую-то несправедливость, сделанную кем-то в отношении ее или ниспосланную ей свыше, и вот она теперь «этот крест» с терпением несет; часто удалялась к себе в спальню, кажется молилась там перед огромным киотом с образами в золотых и серебряных ризах; часто и с грустным оттенком вздыхала, говорила, ни к кому не обращаясь, как бы сама к себе: «да», «да»... и проч.; но теперь к этому состоянию ее, очевидно, было примешано еще какое-то живое, житейское, очень близкое для нее, тревожное и неприятное чувство. Отец сидел на турецком диване, рядом с дядей, и посматривал как-то неопределенно по стенам, на потолок. Один только дядя сидел, казалось, молодцом, красиво, ловко опершись одной рукой о колено, и с несколько иронической улыбкой помешивал ложечкой чай в стакане. Они, очевидно, уж давно здесь сидели. Перед отцом стояла пустая его огромная чашка — он пил чай всегда из чашки; перед матушкой тоже ее пустая чашка. Я вошел и почувствовал тягость напряженных отношений сидевших за чайным столом. Матушка сейчас же стала наливать мне в чашку и сказала: «Садись, какие у тебя манеры...» Но я никаких «манер» не проявлял, только вбежал в комнату, что я делал почти всегда и что не вызывало никогда никаких с ее стороны замечаний. Очевидно, это она сказала потому, что была не в духе и ей сразу же захотелось осадить меня. Я взял стул и смирно присел к столу. Позвякивая шпорой, дядя с улыбкой посматривал на меня. Потом взял с дивана лежавшую с ним рядом свою белую с красным околышем фуражку, мотнул мне пальцем и, когда я подошел к нему, надел мне ее на голову, повернул меня лицом к матушке и спросил: «Идет?..» Матушка кисло улыбнулась. Отец рассмеялся веселей, но как-то деланно, точно обрадовавшись случаю рассмеяться, который наконец-то представился... В комнату вошла сестра Соня и с ней Анна Карловна. Матушка и их встретила с такой же миной человека удрученного, но терпеливо несущего свой крест. Дядя о чем-то спросил по-немецки Анну Карловну, рассмеялся и сказал, что по-немецки он уж теперь, кажется, лет десять не говорил. Потом пошутил с Соней, еще раз подмигнул мне; потом вынул вдруг часы, взглянул, встал и начал прощаться с матушкой. Когда он прощался с отцом, мы услыхали, он спросил его: «Если можно, пришли, пожалуйста, не забудь, этого второго вашего повара. Мне на недельку, на две, я к этой поре где-нибудь куплю себе...» Простился с нами и, стройный, высокий, позвякивая шпорами, пошел в зал. Отец и матушка пошли за ним. Я тоже было хотел пойти провожать его, но матушка движением руки меня остановила и, обращаясь к гувернантке, проговорила: «Анна Карловна...» Та поняла, что ей надо и сказала: «Сидите, пожалуйста, это вовсе не ваше дело...»
Проводив дядю, матушка одна вернулась в столовую; отец остался в передней толковать о завтрашних работах с «начальниками», то есть с конюшим, бурмистром, старостой и проч., которые около этого времени обыкновенно приходили «к докладу». Матушка вернулась к нам такая же расстроенная и унылая. Она как-то умела говорить с Анной Карловной одними вздохами, взглядами, повторением «да», «да», и та ее понимала... то есть она не понимала, может быть, подробностей дела, но самую суть и, главное, отношение к этой сути матушки она понимала отлично...
— Да ведь мы и не доезжали до Прудков сегодня, — сказала Анна Карловна, — я велела Ермилу повернуть.
— И хорошо сделали, — ответила ей матушка.
Они многозначительно при этом переглянулись, и матушка, кивая ей утвердительно головой, проговорила:
— Да... это сюрприз, которого я от Петра Васильевича уж ни в каком случае не ожидала...
Мы с сестрой смотрели на них и ровно ничего не понимали.
Вернулся наконец отец, отпустив начальников.
— А узнал ты: повар Степан здоров, может пожить это время у Петра Васильевича? — спросила его матушка.
— Я послал за ним. Здоров. Он сейчас придет. — И добавил, как бы тоже ни к кому не обращаясь: — Да, сюрприз это...
Степан, как не служащий уже, живущий почти что на покое и притом в качестве больного, отпустил себе довольно большую седую бороду, длинные волосы и одет был, как одевались все такого рода дворовые, в желтом дубленом полушубке. Когда он, поклонившись, остановился у притолки, матушка ласково обратилась к нему, спрашивая его о здоровье;
— Ничего, сударыня, теперь легче.
— Вот что, Степанушка, — сказала она. — Петр Васильевич приехал, был сегодня у нас. У него повара нет в Прудках. Ему нужно недели на две, пока он достанет себе...
Степан молчал.
— Так ты можешь пока послужить ему?
— Воля ваша-с.
— Да нет, мы тебя не принуждаем. Если можешь и хочешь — послужи.
— Воля ваша-с, как прикажете, — повторил Степан.
— Да не как прикажете, а хочешь ты?
— Отчего же-с, — как-то нерешительно и как бы не договоривши чего, сказал он.
— Так вот...
Степан вздохнул, кашлянул в ладонь.
— Да ты что? — спросил его отец.
— Я ничего-с... Вы уж только сделайте милость, защитите, если что... от Петра Васильевича... если гнев какой будет, или от Максима Ефимова, или... от мадамы... может, по-питерскому будут требовать что, а я не знаю...
— О нет, — воскликнул отец, — этого ты не бойся! Этого я не позволю, да Петр Васильевич и сам это хорошо понимает.
— А то отчего не услужить — готов стараться, — сказал Степан, повеселев уж.
Дальше в разговоре он спросил еще что-то и осведомился, кто там будет у Петра Васильевича заведовать столом, и назвал при этом опять «мадаму».
«Кто это такая?» — соображал я и в уме у себя перебирал, кто бы это могла быть? Про кого это он говорит все: «мадама», и матушка и отец его понимают, по крайней мере ничего ему на это слово не возражают, — значит, они знают, и это слово, в виде действительного существа, живет в Прудках. Но кто эта личность, она, эта «мадама»? До сих пор ни о какой «мадаме» в Прудках мы не слыхали.
И вдруг, под впечатлением этих соображений и заключений, не подумав хорошенько, кстати это будет или некстати, я брякнул:
— Мама, а как эту дядину «мадаму» зовут?
Она оглянулась вдруг на меня, сделала большие глаза:
— Что ты сказал?
Я повторил, смущаясь.
— Им спать пора... Анна Карловна, уведите их, — сказала матушка вместо ответа мне. А когда я подошел прощаться к ней, она добавила: — Никогда ты не в свое дело не суйся. Никакого тебе дела до этого нет. И пожалуйста, ни к кому с такими глупыми вопросами не обращайся...
Я понял из этого, что если не это, то есть не эта «мадама», то что-нибудь к этому очень близкое и было главной причиной того странного, натянутого отношения между матушкой и отцом с одной стороны и дядей с другой, которое я застал в угольной, когда пришли пить чай. И, разумеется, эта «мадама» с тех пор не выходила у меня из головы; я вспоминал про «мадаму» всякий раз, как вспоминал про дядю, а не вспоминать его каждый день я не мог уже по одному тому, что в гостиной у нас висел его портрет и я знал, что сам он, оригинал этого портрета, находится от нас в нескольких верстах, в своих Прудках.
На следующий день, отпуская нас кататься, матушка сказала Анне Карловне:
— Так пожалуйста же.
— Да, да, — отвечала Анна Карловна. — Мы поедем по Козловской дороге[34].
— А отчего же... разве не в Прудки? — живо спросил я.