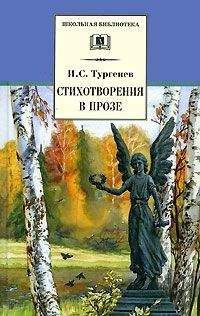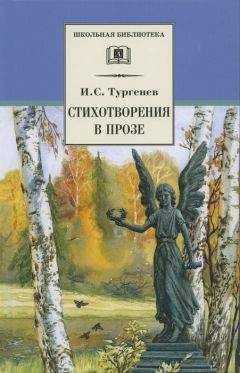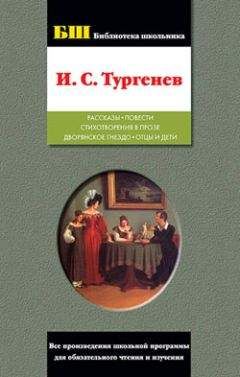Пётр Полевой - Корень зла
— Не завидно мне, а только не рука православному царю с нехристями за одним столом есть!
— Это верно! — заметило еще несколько голосов. — И на музыке за столом играть, и на трубах — этого тоже досель никогда у московских царей не бывало.
— Так что ж что не бывало! А теперь вон есть; потому царь наш Дмитрий Иванович так хочет!.. — крикнул в толпе чей-то сиплый, пьяный голос.
— Ого-го! — зашумели и засмеялись зеваки кругом пьяницы. — Царю любо — и тебе любо! Видно, ты спозаранку от адского пса водицы хлебнул!
И хохот толпы смешался со звуками музыки и песен и неясным говором, доносившимся из дворца.
— Одно я тебе скажу, друг любезный, — таинственно шептал на ухо царскому истопнику старый жилец, толкавшийся около дворцового крыльца среди дворцовой служни, — одно тебе скажу… Да и не я один, а все, чай, это заприметили, как откинул он от себя Ксению Борисовну, как погнался за этой полькой, так и закурил, закурил!..
— Статься может… Да и то сказать надо, как забрал его в руки князь Василий, так и стал его с ума спаивать… Все к Басманову подлещается, а тот царя в пиры да в гулянки сманивает!.. Грехи!
И как раз в то время, когда эти толки шли около дворца и на площади, две мрачные фигуры, закутанные в шубы, с высоко поднятыми воротниками, вышли из-за угла дворцовых зданий, перешли площадь и, остановившись у соборов, оглянулись на ярко освещенный царский дворец, гудевший музыкою, песнями и шумным разгулом пиршества.
— Князь Василий Иванович! — почти со слезами в голосе говорил Шуйскому Милославский. — До чего же мы это дожили! В царском дому бесовское гудение, и плясание, и лядвиями повихляние… Царь московский, распоясавшись, с нехристями ест и пьет и вприсядку пляшет!
— Да, да, князь Федор Иванович! Дожили, голубчик мой, дожили… По грехам нас Господь наказывает! Подумать надобно нам, подумать, как греха избыть… Пойдем ко мне, сегодня на подворье у меня соберется кое-кто на думу… ночью! На тайное совещание…
И затем, подняв кулак, он погрозил им в направлении дворца Дмитрия:
— Добро, добро!.. Не долго уж тебе теперь, скомороший правнук, над нами, старыми боярами-то, потешаться!
XVI
В ОБИТЕЛИ
Наступила весна 1606 года — весна дружная, теплая, благодатная. Снега сбежали быстро, реки вскрылись и прошли почти незаметно, и уже к концу апреля начались везде в полях работы. Даже дороги к началу мая просохли настолько, что по ним уж можно было ездить без особых затруднений и задержек. Такою редкою и диковинною случайностью воспользовался царский стольник Алексей Шестов и отправился на побывку к родным в Ростовский край и Костромское Поволжье.
Он уезжал, чтобы избежать шумных празднеств и всяких пиров по поводу приезда в Москву царева тестя, Юрия Мнишека, прибывшего с огромною свитой из польских и литовских людей, в которой насчитывалось больше двух тысяч человек. Алешеньке было не до веселья: тяжело и грустно было у него на сердце. Никого из родных, милых и близких людей у него на Москве не осталось. Романовы разъехались по своим поместьям. Петра Тургенева и Федора Калашника он сам похоронил рядом на Ваганькове, выпросив у царя в виде особенной милости, чтобы тела их были выданы ему из убогого дома «на честное погребение». Иринья, дорогая Иринья, желанная и нареченная невеста, на время также его покинула, уехав из Москвы с царевной Ксенией Борисовной, за которой она последовала во Владимирскую женскую обитель, свято исполняя при ней христианский долг любви и бескорыстной преданности.
Из обители, куда Ксения удалилась, не доходило до Москвы никаких вестей. Алешенька начинал уже не просто тосковать по Иринье, а даже не на шутку тревожиться, не стряслось ли какой-нибудь новой беды над его суженой. Вот почему, отпросившись в Ростовский край и в Кострому, Алешенька выехал из Москвы не по Троицкой, а по Владимирской дороге и так по ней бойко гнал, что его всюду, на ямских подворьях и станах, принимали за царского гонца, посланного во Владимир с важными вестями по государеву делу.
Благодаря такой спешной езде Алешенька Шестов, спозаранок выехавший из Москвы, во вторник Фоминой недели, в полдень в среду уж подъезжал к Владимиру, который живописно раскинулся перед ним на высоких побережных холмах излучистой Клязьмы.
— А куда же тебя везти-то, господин хороший? — спрашивал его старый ямщик. — Чай, есть у тебя приятели здесь в городе? Или велишь на заезжий двор ехать? У нас тутотка у Настасьи Тетерихи харчи больно хороши дают, да и квасы варит тоже первые в городе, и брага хмельная на погребу завсегда есть…
— А ну тебя и с квасами, и с брагой! — сердито отозвался Алешенька. — Вези прямо в Рождественский монастырь. Не до харчей, когда дело есть.
— Дело делом, а харчи харчами, — проворчал старик. — Тоже не поевши хлеба Божьего, за дело как же приниматься?
И он лениво заворачивал лошадей в объезд, окраинами города, по направлению к древнему Рождественскому монастырю.
Вот наконец и обитель, вот тележка Алешеньки остановилась у ворот, и он, постучавшись, вошел в калитку после некоторых переговоров с привратником.
— Ступай скажи матери настоятельнице, что государев стольник Алексей Шестов, мол, прибыл из Москвы проездом и хочет повидать свою… родню. Тут есть боярышня Иринья Луньева, при царевне Ксении Борисовне служит…
— При инокине Ольге, — сурово поправил его седой, дряхлый сторож монастырский.
— Ну да, при инокине Ольге! — досадливо повторил Шестов. — Да поживей ворочайся, старина!
И он сунул сторожу в руку несколько алтын.
Старик глянул на Алешеньку во все глаза, поклонился ему в пояс и так прытко заковылял от ворот к келье настоятельницы, что он невольно улыбнулся.
Через полчаса все было улажено и Алешенька, сияя радостью глубокой, искренней и честной любви, стоял в монастырском саду и держал за руки свою дорогую, бесценную Иринью, которая выбежала к нему на часок поболтать между делом, как будто она и не разлучалась с ним и только вчера еще видела его и наговорилась досыта.
— Ну, что же ты стал? Что молчишь? — допрашивала Иринья. — Говори, зачем приехал?
Но Алешенька молчал и только широко и блаженно улыбался, вглядываясь в очи своей подруженьки, и всей грудью вдыхал ароматы распустившейся березовой почки, которыми был пропитан воздух в саду.
— Да говори же! Аль обет молчанья наложил на себя, господин царский стольник? — нетерпеливо побуждала Алешеньку Иринья, стараясь высвободить свои руки.
— Погоди, голубушка! Дай насмотреться, налюбоваться на тебя! — шептал влюбленный юноша.
— Неужто ты только за этим из-за двухсот верст приехал! Не лукавь, дознаюсь ведь я!
— Ириньюшка, приехал я тебя просить… Сжалься ты надо мною! Невмоготу мне. Брожу я по Москве, как по пустыне, один-одинешенек. Сжалься ты надо мною: повенчаемся!
— Значит, по-твоему, так: на чужую беду рукой махни, а мне на шею повесься! Разве я могу царевну так бросить, умник?
— Ириньюшка! Да ведь я который год своего счастья жду!
— Так что ж такое? И я жду! — отвечала Иринья с досадою. — А коли надоело тебе ждать, так и скатертью дорога… В Москве невест непочатый угол! Не твоей Иринье чета!
И она с притворным гневом оттолкнула его руки.
Как раз в это время над головой Алешеньки из кельи, скрытой густыми кустами сирени, раздались звуки музыки и заунывное пение…
— Вот! Она поет! Прислушайся! — шепнула Алешеньке Иринья.
И он, прислушавшись, услышал, как свежий, прекрасный голос пел:
Как сплачется малая пташечка,
Голосиста бела перепелочка:
«Охти мне, пташечка, горевати!
Хотят сыр-дуб зажигати…
Мое гнездышко разорити,
Моих малых детушек загубити,
Меня, пташечку, поймати!»
Иринья дернула за рукав Алешу и, наклонясь к нему, шепнула:
— Поет так-то по целым дням! Под окном сидит и распевает, и все грустное такое! Всю душу у нас с Варенькой вымотала!
И опять послышалось пение:
Как сплачется на Москве царевна,
Борисова дочь Годунова:
«Ин Боже, Спас Милосердный,
За что наше царство погибло:
За батюшкино ли согрешенье?
За матушкино ли немоленье?
А светы вы, наши высокие хоромы,
Кому вами будет владети?
А светы, браны убрусы,
Березы ли вами крутити?
А светы, золоты ширинки,
Лесы ли вами дарити?
А светы, яхонты-сережки,
На сучья ли вас вздевати?
Ин Боже, Спас Милосердный,
За что наше царство погибло?..»
— За что? За что, Господи? За что мы погибли? — послышался вслед за тем жалобный голос царевны, прерываемый глухими рыданиями.
Иринья поспешно отвела Алешу от окна кельи в глубь сада и проговорила ему нежно и горячо: