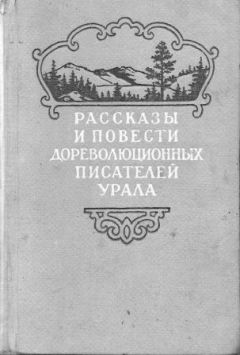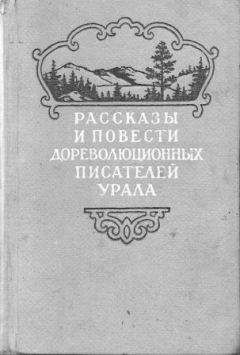Александр Туркин - Рассказы и повести дореволюционных писателей Урала. Том 2
— Где же, зачем на жительство… Повидаться только охота было, Калистратушка, детонек твоих поглядеть… Сам знаешь, с коей поры-то не виделись… — робко ответила Феоктиста.
— То-то, — благосклоннее взглянул он. — У меня ведь жить негде, своя семья, тесно… Гостить гости, сделай милость, хлеба не жалко: готовый едим. Когда домой-то думаешь?
— Не знаю… — упавшим голосом прошептала она.
— Ох-хо-хо! Беда с вами, со старухами, — будто устыдившись немного, вздохнул он для смягчения своего вопроса. — За сколько верст притащилась! Деньги на обратную дорогу есть ли? На вот тебе пять рублей. Дал бы больше, да сам не при деньгах сейчас, здесь жизнь ведь дорога, не то, что в деревне. Все ли там у вас здоровы? Ну и ладно. Кланяйся им от нас… Да ты пила ли чай-то? Пей, а то обедайте. Ну, гости, гости, коли охота, хлеба не жалко! — заключил он, уходя, но в дверях обернулся и добавил: — Пойдем, покажу уж тебе внучат, что с тобой поделаешь!
Внучат ей показали у порога чистой комнаты. Сама Антонина Ивановна сидела у окна, капризно надув губы, и даже не шевельнулась в сторону свекрови. Калистрат держал на руках мальчугана, крепкого, розового, а подле него жалась, глядя исподлобья, девочка лет трех. Феоктиста хотела было приласкать ее, но та дичилась и пятилась, держась за отца.
— Я тебя не любу… Ты нехолосая, бяка… — откровенно призналась она, уставившись на морщинистое лицо и худые, темные руки старой бабушки.
Феоктиста глядела на эти красивые комнаты с картинами и цветами, на этого важного господина с нарядными детьми, на чванную барыню в шелках, — и никак не могла проникнуться сознанием, что это близкая ей семья родного сына. Ничего она не чувствовала к ним родственного, все здесь казалось ей таким чужим, далеким, холодным, а в душе накипала скорбная, неутолимая жалость к безвозвратно пропавшему где-то любимому сыну.
Облегченно вздохнула Феоктиста, покинув на третий день этот чужой дом, где ближе всех была ей только добродушная стряпуха.
К своим вернулась она такая убитая, жалкая, будто даже сразу одряхлевшая. С первого взгляда на вернувшуюся так скоро из города Марья с мужем поняли, что с ней случилось там что-то потрясающее, и не расспрашивали. Молча вылезла Феоктиста из телеги, молча вошла в избу и стала раздеваться при том же подавляющем, жутком безмолвии, какое рождает кругом себя человеческое страдание изнывающей души.
Вот Феоктиста опустилась на скамью, обвела замутившимся взглядом выжидательно воззрившиеся лица родных, и вдруг из груди у нее вырвался долгий, наболевший, отчаянный вопль. Все тело ее задрожало от прорвавшихся, долго таимых в себе рыданий, по лицу потекли быстро-быстро крупные слезы. Она упала на стол, билась об него головой и, захлебываясь слезами, кричала страшно, неистово и пронзительно, как от нестерпимой, жестокой пытки:
— Маменька! Что ты? Полно терзаться, полно, — перепугалась тоже принявшаяся плакать Марья. — Что у тебя приключилось-то? Скажи хоть словечко!
— Нету! Нету у меня больше сыночка-а! Нету моего ясного сокола! Не приголубит он меня, старую, не утрет слезу мою горячую-ю! Ой, тошно мне, горемычной! Тошно, тошноо-о..- надрывалась Феоктиста, как над покойником.
А сын для нее и в самом деле умер, как навсегда похоронила его заживо…
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по тексту газеты "Голос Приуралья", 1907, 16 июля.
Стр. 317 Бердо — принадлежность ткацкого станка, гребень для прибивания утка к ткани.
Стр. 317 Цевка — шпулька, на которую наматывается нитка утка, идущая поперек основы.
Стр. 320 Щелгунок — котомка, мешок для хлеба и припасов в пути.
Стр. 321 Панева — домотканная клетчатая материя, женская одежда, сшитая из такой материи.
Стр. 322 разболокайся — раздевайся.
КРОВЬЮ СЕРДЦА СВОЕГО
Из молодых, но на удивление талантливый и плодовитый писатель Захар Корытников, пишущий под псевдонимом "Наркис Гиацинтов", чрезвычайно любим публикой и популярен в литературных сферах. Все его хвалят, исключая, конечно, бездарных завистников.
— Бесценный человек! Изумительная способность чувствовать момент… бьет всегда в самое живое, больное место… Удивительно! — с умилением отзывались редакторы провинциальных газет.
Читатели… Бог мой, сколько пышных комплиментов приходится выслушивать от них Наркису Гиацинтову!
— У вас благоухающее, нежное дарование… сколько задушевной теплоты, искренности!.. Вам тяжело, верно, жить с таким чутким сердцем?
— Вы избранная натура, оттого и владеете толпою, что пишете кровью своего сердца, это чувствуется!
Такое внимательное отношение общества ободряет молодой талант, воодушевляет. Правда, всеобщие похвалы часто кружат юные головы, но Гиацинтов и тут счастливое исключение: успех не вселял в него ни сомнения, ни пагубного пренебрежения и лени. Молодой беллетрист от этого только чувствовал в себе все возрастающие, неиссякаемые силы, все более проникался благоговейным уважением к своему таланту и горел жаждою самоотверженного служения добру и красоте. Сколько им сделано для святого дела очеловечения этих жестоких двуногих животных! Не спрашивайте, чего это стоило чуткому, нежному писателю: недаром говорят, что он пишет кровью своего сердца.
Да, он не жалеет сил. Не далее, как в три последних дня, им написаны четыре рассказа, три новеллы, шесть миниатюр — все для праздничных номеров самых распространенных газет. Пусть читают, пусть не говорят, что Гиацинтов зарывает свой талант в землю!
Правда, после столь напряженного художественного творчества он почувствовал такую ломоту в спине, точно его молотили в четыре цепа, и заснул, как пожарный после жаркого дела, но сколько блаженного упоения в высоком сознании совершенного подвига! Сегодня проснулся в одиннадцать утра в детски счастливом настроении.
Слава богу, развязался! Можно и отдохнуть после такой титанической умственной работы. Талант, конечно, принадлежит обществу, но носитель этого божественного дара, как хотите, все-таки человек. Как хорошо! Пройдет неделя, и тысячи, десятки тысяч людей будут читать вдохновенные строки Наркиса Гиацинтова. Если даже только половина воспримет, сколько святых слез исторгнется! Да нет! Что половина? Никто не устоит. Восторженные взгляды толпы, застенчивые похвалы почитателей…
— Барин! Вам письмо газетчик принес. — Гиацинтов поморщился, будто его прямо с Олимпа потянули грязными руками в канцелярию частного пристава.
— Что еще там такое? — простонал он, но едва начал читать письмо, лицо его сперва побледнело, потом исказилось страдальческою гримасой. — Вот проза жизни! Вот шипы наших роз! Проклятые барахольщики, помнят, что за мною авансы…
Письмо было от редактора прогрессивной газеты "Осиное жало"; тот убедительно просит доставить к завтрему праздничный рассказ.
— Но у меня для них ничего нет! Что же теперь делать? Что?! Может, пренебрегу? Не починка же это галош с ручательством, черт возьми! Даже срок назначили… А не дать нельзя, никак нельзя… И как я мог забыть об этом треклятом "Жале"! Но что же написать? Что? Положительно ничего не осталось в голове…
Вконец расстроенный, Гиацинтов отказался от кофе, долго метался из угла в угол, потом в изнеможений прислонился к окну, устремив на улицу одурелый, бессмысленный взгляд.
"Жандарм влюбился в политическую арестантку, помог ей бежать, сам сделался террористом-революционером… Нет, не то! Старушка-мать пошла в тюрьму ночью, впоследние прижать к сердцу своего сына, а за городом на нее напали волки и съели. Тоже не годится! Что ж? Возьму и заморожу мальчика у ярко освещенного окна магазина… Нет, нет! Тысячи мальчиков художественно заморожены великими мастерами, я не хочу повторений, пошлых перепевов!"
По переулку, корчась от мороза, бежали солдаты, лошади все превратились в белых, мужики в дровнях кутаются в косматые собачьи дохи. Солнышко светит на той стороне, такое желтое, холодное… Гиацинтов заглянул на градусник — двадцать восемь! Вздохнул, хрустнул пальцами.
— Что это? Боже мой! Неужели? Ну да, ты нашел себя, схватил тему, вот же она, вот! Ведь это для обывателя просто пьяный рабочий, весь в снегу, выписывающий мыслете, а для художника с творческою фантазией? О-о! Благодарю тебя, небо!
Гиацинтов, весь дрожа мелкою дрожью восторженного экстаза, с выступившим румянцем, жадно следит сверкающими глазами за пьяным, беспомощно цепляющимся за гладкие стены.
— Да он же не дойдет до дому! Он не держится на ногах… сейчас упадет, вот-вот… пал!!
Он стремглав кидается к письменному столу, хватает бумагу, от волнения едва попадает в чернильницу, и вот уже перо его с непостижимою быстротою забегало, заскрипело, спотыкаясь и садя кляксы.
"Мрачный, тюремного вида, сырой подвал… По стенам зеленая плесень… Изможденная, прежде времени увядшая женщина ломает руки в безысходном отчаянии и муке. Сердце несчастной страдалицы терзают вопли голодных детей. "Милая мама! Мы умираем от голода! Дай нам хоть черствую корку хлеба! О, зачем вы нас произвели на свет?" — стонут несчастные малютки. Адские страдания искажают бескровное лицо матери, острые ножи вонзаются в ее сердце. Ножи, ножи!.. Обездоленные существа, вечерние жертвы жестоких социальных условий! Напрасно льются святые ангельские слезы, тщетно лепечут невинные уста: "Скоро ли придет наш папа? Он, верно, принесет французской булки и шоколада?" Напрасно, напрасно… Знаете ли вы желто-зеленые вывески? О, не читайте, не смотрите этих желто-зеленых вывесок, если они вам еще незнакомы! Кровью ваших матерей и жен написаны они, дьявол писал эти вывески. Дьявол! Дьявол! Жертва буржуазного строя, он шесть долгих дней изнывал над работой, чтобы получить эти несколько рублей. На крыльях радости стремился к возлюбленной жене-другу, к дорогим малюткам, ободряемый счастливою мыслью: "Они будут кушать суп и кофе с сдобными булками, у них будет тоже праздник…" Леденящее дыхание морозного ветра пронизывает его ветхую одежду, члены его коченеют… О, искушение! Желто-зеленая вывеска… Печальное наследие предков, мучеников и рабов капиталистического строя сказалось, парализовало его волю, заглушая добрые чувства, он остановился. Огненная влага расплавленным свинцом ожгла его внутренности, отуманила его мозг… Мозг, мозг! Внутри горело, точно наелся кайенского стручкового перца, жажда мучила тем сильнее, чем больше он пил… О, смотрите вы, у которых сердце крокодила, прожорливость акулы. Вы хотели отнять у человека и те гроши, что кинули за его обесцененный труд? Вы отняли. Торжествуйте! Вы сначала одурманили, потом ограбили человека, но вас за то не повесят, даже в тюрьму посадят не вас, а его же, если с голода он украдет колбасу, вытащит кошелек… Вот он идет, у которого вы отняли образ человеческий, окоченевший, в рубищах… Несчастный употребляет последние усилия сохранить равновесие, но тщетно: он упал".