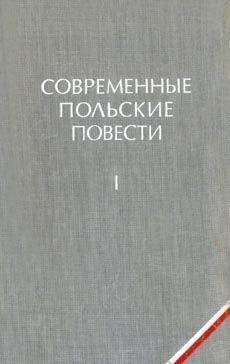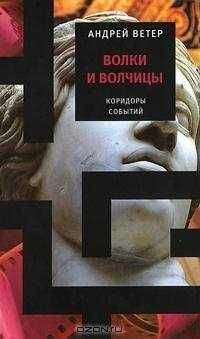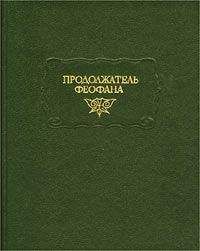Юрий Герман - Один год
- Анатолий! - крикнул Ханин. - Грибков!
Только теперь он начал понимать, что случилось. И, опускаясь на корточки за спиной юноши, поворачивая его к себе, сам не слыша своих слов, он закричал хриплым, не своим голосом:
- Иван Михайлович! Лапшин! Кто тут есть! Грибкова убили... Окошкин!
- Ах, да не убили, - с досадой и со стоном сказал Толя. - Живой я. Наверное, ранили.
Рука его все еще скребла снег, и лицо было под цвет снега, когда Лапшин, Бочков и Побужинский склонились над ним, освещая его карманными фонарями. Ханина трясло. Кто-то из курсантов подал ему шляпу. Возле самого его лица мелькнули ноги Криничного, две машины сорвались и на полном газу исчезли за поворотом. Лапшин, вздыхая, накладывал повязку Грибкову, Побужинский ему светил. Вновь пошел снег, но теплее не стало.
- Как же это случилось? - уже в машине, усталым голосом, спросил Лапшин.
- Это я виноват, - помолчав, ответил Ханин.
- То есть?
- Он знал, что у меня нет оружия. И когда началась пальба, закрыл меня. В нем сидит не его пуля, а моя.
"Творческая лаборатория! - внезапно вспомнил Ханин и ужаснулся, представив себе, как обидел тогда своей нелепой раздраженностью Грибкова. Зачем, для чего я так шуганул мальчика?"
В Детском Селе в больнице Лапшин получил документы Грибкова, его разряженный пистолет, какую-то тетрадку, книжечку Маяковского "Как делать стихи" и комсомольский билет. Тетрадку он протянул Ханину. Тот протер очки, сел здесь же, в приемном покое, на белую табуретку и стал читать. Это были Толины стихи, такие, какие пишут все мальчики в его возрасте. Тут было и про то, что такое настоящая любовь, - "без слез, без вздохов, без нелепых мук, товарищ, девушка, подруга и жена", было и про речку - "тиха, задумчива, прозрачна, глубока", было и про авиацию - "ревя моторами, идут в последний штурм", было и про уголовный розыск - "гражданин, спокойно, вы арестованы..."
- Что, хорошие стихи? - негромко спросил Иван Михайлович.
- Не знаю, - глядя в тетрадку, ответил Ханин. - Впрочем, это и не важно. Я вообще теперь не понимаю, что важно, а что совсем не важно...
Стаскивая на ходу резиновые перчатки, вошел круглолицый, молодой врач, попросил у Лапшина папиросу, сел и сказал, пытаясь закурить:
- Ну что ж, товарищи, дело серьезное. Покуда мне не совсем все ясно. Состояние его, разумеется, тяжелое. Утром соберем консилиум, позвоните...
Дежурная сестра спала, положив голову в косынке на скрещенные руки. За большими окнами серело, занимался морозный рассвет. Когда Лапшин и Ханин поднялись, в приемный покой вошел Окошкин, с красными глазами, замученный.
- Жив еще? - спросил он у врача.
- Жив, - сказал Иван Михайлович. - Пойдем, Васюра.
В машине Окошкин уныло рассказывал:
- Ушел Корнюха. И Мамалыга ушел. Которого взяли - еще личность не установлена. Корнюха с ним поменялся шапками, напялил его треух. Хитрый! Он на подножке повис и соскочил где-то на ходу, черт его знает где, - по гололеди разве разберешь? Собаку, конечно, вызвали, согласно науке...
- А Мамалыга-то как ушел? - сердито спросил Ханин.
Окошкин не ответил.
В городе ехали медленно.
Дома Иван Михайлович достал ханинскую, наполовину опорожненную бутылку коньяку, налил всем по стопке и сказал негромко, так, чтобы не разбудить Патрикеевну:
- Ну, братцы... Чтобы Толя наш поправился. Выпей, Давид Львович, вон тебя до сих пор дрожь пробирает...
Выпили и легли поспать хоть на часок. Но уснул только Окошкин: на полу, на тощем тюфяке. А Лапшин и Ханин, попритворявшись часа полтора друг перед другом, что спят, притворились, что проснулись, и сели пить чай. После чаю Ханин сразу же уехал в больницу к Грибкову, а Иван Михайлович, не велев Патрикеевне будить Окошкина, отправился в Управление.
Амба!
Жмакин лежал на кровати и курил, когда Клавдия одевалась на работу. Было слышно, как она разговаривает со старухой внизу. "Если еще зайдет сюда, - загадал Жмакин, - значит, жизнь моя кончена, если не зайдет выберусь!" Он всегда загадывал наоборот. Клавдия вошла.
- Не спишь?
- Сплю! - угрюмо ответил он.
- Пойди в милицию, - садясь в пальто на кровать, сказала она. - Или куда там надо! Заяви - пришел добровольно. Ничего не таи, выложи все. Слышишь, Леша?
Она отвела волосы с его лба. Жмакин не глядел на нее.
- А дальше?
- Что дальше?
- Во я и спрашиваю - что дальше? Ну, явлюсь. Ну, поднесут мне цветы и музыка сыграет туш от радости, что Жмакин явился. А дальше?
- Дадут тебе срок, я ждать буду.
- Ты-то? - с презрением усмехнулся он. - Ты и недели одна не выдержишь! Что я, теперь тебя не знаю? Даже смешно, честное слово!
Клавдия опять отвела волосы у него со лба и спокойно ответила:
- Дурачок.
- Ничего не дурачок. Это сегодня у тебя в голове такая смесь пошла, что ты мне различные клятвы даешь, а через неделю сама на себя удивишься. Передовая, честная, нужен ей какой-то ворюга! Нет, дорогуша, как-нибудь обойдемся без покаяния - коли ежели нужен, изловят и отправят по назначению.
- Клавка, на работу опоздаешь! - крикнула снизу старуха.
- Не опоздаю. По какому такому назначению?
- На луну! - сказал он, хотя отлично знал, что ни о каком расстреле никто и не подумает. - На расстрел, поняла?
Но Клавдия не испугалась.
- Врешь ты все! - сказала она с улыбкой. - На нервах мне играешь. Разве ты убийца, чтобы тебя расстреливать? Или изменник родины? Просто карманник, сумочки воровал.
- Ну-ну! - угрожающе произнес Жмакин.
- Зарежешь меня, да? - спросила она. - Вот такую славненькую возьмешь и зарежешь? А что ты мне нынче ночью говорил? А когда квас от батьки принес? Ты какие мне тогда слова говорил? Ты мне и "лапушка" говорил, и "солнышко" говорил, и "ласточка" говорил, и "зайчик" говорил. Теперь вон развалился, весь перекошенный...
И она вдруг смешно, мгновенно и очень точно показала, какой он лежит весь перекошенный.
- Шла бы ты на работу, - вяло произнес он, - ну что переливать-то из пустого в порожнее. Учите все, учите, туда покайся, там сдайся! Надоели вы мне все, чтоб вас черт побрал, ну жулик и жулик, ну вор и вор, ну и кончено...
- Не кончено! - крикнула Клавдия. - Ничего не кончено! И не начато даже!
Она смотрела теперь на него со злобой, почти с ненавистью. Губы у нее дрожали.
- Я верила, что ты мужик! - жестко сказала она. - А ты тряпка. Барахло. Никто ты, никакой даже не человек, мусор...
Теперь улыбнулся Жмакин: "Воспитывает!"
Она ушла, чуть не плача.
До двух часов пополудни Жмакин лежал и курил. Дом опустел. В сущности, ему следовало уйти, вновь на вокзалы, в поезда, как раньше. Но на это не хватало воли. Дождаться бы Клавдию, тогда другое дело. И он представлял себе, как она войдет и спросит, неужели его с утра так и не покормили. А он ответит: "И что особенного?"
Только бы дождаться.
Но в два часа внизу постучали. И Жмакин понял, что теперь уже никогда не дождаться Клавдии. Спокойно, не торопясь он натянул брюки и с маху отворил дверь. Вошел милиционер - вежливый, солидный, выбритый до лоска.
- Ломов Николай Иванович здесь проживает? - спросил милиционер.
- Здесь, - сказал Жмакин, - только он вышел неподалеку. Я сейчас за ним смотаюсь. Вы посидите, погрейтесь.
Милиционер потопал сапогами и вошел в комнату. Это был рослый, очень здоровый человек с солидностью в манерах. Пока Жмакин одевался у себя наверху, он слышал, как милиционер сморкается и покашливает. Надо было еще взять деньги и паспорта - те, другие, краденые. Но тут же ему стало все равно. Он натянул пальто, прошелся по комнате и спустился вниз.
- Так я пошел, - сказал он милиционеру.
- Идите, - солидно ответил милиционер.
Жмакин отворил дверь и вышел на крыльцо. День был мягкий, пасмурный, серенький - вчерашний красный закат наврал. Летели крупные хлопья снега. Жмакин закурил, стоя на крыльце и всматриваясь в конец улочки: нет, Клавдии не было видно.
"И не увижу я ее теперь никогда, - со спокойной тоской подумал Жмакин. - Никогда!"
На ступеньках крыльца лежал чистый снег. Крупные следы сапог милиционера отпечатались здесь. А Клавдиных следочков уже не было, запорошил снег. "И не попрощался я с ней! - осудил он себя. - По-хорошему слова не сказал, а она такая - одна!"
Вновь следы милиционера озлобили его.
"Теперь подождешь Ломова! - про себя сказал Алексей. - Ломов не скоро к тебе явится. Посидишь! Набрился, черт, наодеколонился!"
Еще раз он оглянулся на дом и шепотом простился:
- Прощай, дом!
Теперь все кончилось. Железнодорожные рельсы чернели под свежим снегом. Вдали шумел поезд. Жмакин встал на колени в снег и прижался шеей к рельсу. Поезд стал еще слышнее. Он поправил колено - было больно упираться в шпалу. "Машинист увидит, - уныло подумал он, - наверняка увидит". Машинист действительно увидел его - дал два коротких предостерегающих гудка. Жмакин встал и пошел в лес. Ему казалось теперь, что он как кусок бумаги - плоский, бессмысленный, жалкий. Он шел по лесу, размахивая руками. Потом он забормотал. Первый раз он подумал про себя, что он страдает и что он несчастен. Главное, ему решительно ничего больше не хотелось: ни отомстить, ни ударить, ни напиться. Ничего. Он вдруг стал задыхаться и сел на груду валежника. Валежник был гнилой и провалился под ним, ноги нелепо поднялись в воздух, пальто зацепилось за ветки - очень трудно было подняться. Он пошел дальше, глубже, снег засыпался в туфли. Его поразило - а Клавдия? Волна невыразимой нежности обдала его. Он вспомнил все. Он вернулся, потом опять пошел в лес, потом попал к оврагу и стал слушать: какая-то птичка попискивала. Он собрал немного рассыпающегося в руках снега и швырнул в сторону писка. Птичка все попискивала.