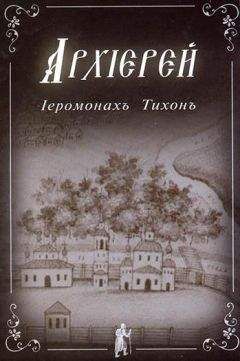Евгений Шкловский - Заложники (Рассказы)
И словно кто-то великодушный шел навстречу: нам с приятелем постелили наверху, в мансарде, допустив, можно сказать, в святая святых. Иначе мне и не мыслился тот, вознесенный кусочек пространства, куда, казалось, простым смертным путь заказан. Кусочек Олимпа.
Хозяин спал внизу, в кабинете, на следующий же день он уезжал по делам в Москву, рано утром, и можно было, проснувшись, еще не окончательно выбравшись из сонной одури, медленно, как бы оттягивая главное любопытство, осматривать деревянный потолок, бревенчатые стены, узкие полки с журналами (главным образом, синий "Новый мир"), иконку в углу. И, разумеется, письменный стол - старинной работы, из какого-то сильного, настоящего дерева.
Дальше - распахнутое окно и ели, и березы, протягивающие свои ветви, будто в надежде - достать, дотянуться, дотронуться. Им тоже было нужно, как и мне.
На столе лежало.
К этому столу и к тому, что лежало, вел особый путь: сначала покружить на узком пятачке между столом и кушеткой, потрогать журналы, уже поблекшие, выцветшие, с немного пожелтевшей бумагой, опираясь на руки, втянуть тело в оконный проем, чтобы увидеть внизу три каменные ступеньки, ведущие на веранду, скамейку неподалеку, к которой иногда подставляли стол для вечернего чаепития, с блестящим медно-настоящим самоваром, ведерным, попыхивающим тлеющими шишками, весь этот усадебный пейзаж сверху, еще невиданный вид, покачивающийся от моего волнения.
Как если бы я не стоял, а плыл. Или летел. Как если бы пролетал.
Потом можно было сесть в небольшое креслице из того же, что и стол, настоящего темного дерева, с обводной сплошной спинкой, откинувшись, вновь отдалиться, отлететь туда, в заоконное еловое пространство, хранящее е г о взгляд, е г о тишину, е г о вдохновение, и только затем наконец дотронуться, как бы нехотя, как бы совершенно случайно, до пухлой красной папки с развязанными красными тесемками. На машинописных страницах пометки, помарки, исправления... Простым карандашом. Красным карандашом. Черной ручкой.
Хорошо бы еще научиться читать. Простые, знакомые вроде бы все слова, но - не складывались, не сопрягались. Может, потому, что я нарушал. Пересек границу, но запнулся от неуверенности. От чувства греха. Из чувства благоговения. Я сам себе мешал.
Это была святая святых литературы: до-литература, пред-книга, - что-то горячее, беспокойное витало над ней, словно жизнь, заколдованная в этих маленьких черненьких значках-криптограммах, еще не уложилась, не отвердела.
Передо мной лежал ни больше ни меньше - роман. Так и значилось на первой странице, под заглавием. Крошечными буковками в разрядку, показавшимися очень большими. Больше названия. Может, поэтому и название не запомнилось, проскользнуло мимо, просеялось сквозь эти самые крошечно-огромные буковки:
Р О М А Н.
Или, может, оно потом поменялось, и уже книга называлась по-другому, так ведь тоже бывает. И не просто роман, а исторический, из все той же отечественной словесности... Имена мелькали знакомые - Пушкин, Тютчев, Боратынский...
Родные все лица!
Впрочем, не так это было и важно - название, герои... Объемистая рукопись на столе и высоченные ели за окном - вполне было достаточно, чтобы проникнуться. Достаточно, что роман. Как будто бы даже законченный. Куда больше?
Я сидел над рукописью, над картонной папкой с красными тесемками, как бы мимолетно задевая ее взглядом, устремленным к вершинам елей, как бы ненароком включая ее в панораму, в пейзаж.
Последний штрих был нанесен, рамка готова. Запредельный, недосягаемый мир родной литературы, дух ее возвышенный, усадебный, трепетный, дух неусыпный, дух бдящий, - ну да, все и снизошло враз, будто очутился я в ином времени, в другом, прошлом веке. И даже почувствовал себя немного героем, то есть тоже отчасти писателем.
Как если бы меня посвятили.
3
По утрам, уже довольно прохладным, он окунался в речушку, которую постоянно сам же и углублял в этом месте - чтобы не заносило песком, чтобы не заболочивалось. Купался азартно, пьяно, с воплями и взвизгами, как мальчишка.
По неведению можно было и испугаться: что происходит? Но оказывалось ничего страшного, просто вода в речушке текла холодная, ключевая. Обжигающая.
Родная литература и здесь постаралась. Разве не от нее пульсировала в нем эта замечательная страсть к жизни, данной нам и в ощущениях?
Вкус к жизни.
Вкус, который очаровывает даже в самых неблагополучных сочинениях русских писателей. Вроде все дурно, хуже некуда, а жить тем не менее хочется. Еще как хочется. И не просто, а с азартом. С той же самой недосягаемой полнотой, какую только там, в сущности, и находишь.
У него так и выходило - со вкусом, азартно и полно. Ни убавить, ни прибавить. Почти натурально. И в то же время как бы по законам эстетики.
Ах, как мы бежали тогда по зимнему, застывшему в морозной тишине, уже смеркающемуся лесу! Писатель впереди, я поотстав, а потом, разлетевшись, вдруг почти утыкался в него, наезжая лыжами на лыжи. И - видел близко улыбающееся, задумчивое, тонкое лицо, заиндевевшую бороду и покрывшиеся остриями сосулек усы. Он поджидал.
Опершись на палки, любовно оглядывал он всю окружавшую нас красоту синий снег, серое, но внезапно светлеющее и даже розовеющее небо, словно изваянные, в причудливых снеговых одеяниях ели, - и столько страсти, столько восторженного умиления этой нерукотворной красотой было в его взгляде, что и я, запыхавшийся, но всячески стараясь не подать виду, тоже начинал озираться, млел и дышал полной грудью.
Так ведь и красиво было поистине - как в иные безветренные дни после обильного снегопада, когда лес погружен в тишину почти неземную, тонет в ней, околдованной белизной собственных риз.
Да и какой же русский не любит?..
Во время очередной остановки, когда мы уже молча постояли рядом, полюбовались, подышали глубоко, выпуская из себя клубы пара, он неожиданно грустно сказал, словно продолжая давнюю неслышно звучавшую в нем речь, - да, когда сын был маленьким, лет шесть-семь, он его часто брал с собой на лыжах, и тот, закутанный, неуклюжий, смешной такой, но идет, палками старательно отталкивается, упадет, поднимется и снова идет... Трогательный. Теперь не вытащишь. Неинтересно ему.
Тени скользили по лицу, просветленно-печальному.
Неужели переживал из-за этого? А может, хотел, чтобы я, приятель сына, что-то ему объяснил, помог понять? Что я мог ему объяснить? Я и про себя-то толком еще не знал ничего, кроме того, что мне хорошо было рядом с ним в этом зимнем вкрадчивом лесу, в этой тишине и п о л н о т е, которую я снова ощущал здесь, как и несколько месяцев назад, летом.
Удивительное, несравненное чувство!
А вечером, уже совсем близко к ночи, натаскали березовых поленьев и протопили баньку, так протопили, что, раздевшись и войдя в парилку, сразу же и задохнулись, сразу поплыли в пылающе-красном, обволакивающем, расслабляющем, слепящем.
Жар здесь тоже был настоящий, чудом сохранившийся, неизвестно откуда взявшийся.
Веник прохаживался по моей и без того раскаленной спине все настойчивей, все яростней, все плотней прилегали к горящей коже острые, хлесткие березовые прутья, невмоготу было терпеть и дышать...
В какой-то миг выбросило меня на снег, голого, из разъятого нутра клокочущего жара, выбросило и понесло к заснеженным мосткам, к заранее приготовленной хозяином полынье, к чернеющей в ней, потревоженной в зимнем покое воде.
Бултыхнуться в ледяную воду, камнем уйти в нее, как приговоренному, и тут же взвиться, ошарашенному, с гортанным задышливым всхлипом, снова по снегу, к светящемуся запотевшему изнутри окошечку, в благословенный жар, где тебя уже радостно приветствуют, снова гуляют по тебе веником, улыбаются, восхищенные твоей решимостью. Теперь уже твоя очередь работать веником еще, еще, и вот так, и теперь вот здесь, эх-ма!!
Сам хозяин дважды бегал к проруби, оглашая тишину ночного леса пронзительными восторженными криками, так что вороны, испуганные, тяжело вспархивали с верхушек деревьев, сбрасывая с ветвей шапки снега, каркали недовольно. Розово-красный, распаренный, неожиданно совсем молодой, смеющийся - таким он потом еще долго помнился, как и банька, огненно раскаленная, ярко освещенная стосвечовой лампочкой, и рыжие бревна с капельками влаги, - как же там было жарко!
Мы уже давно, размякшие, сидели дома, кипятили чайник, заваривали, как было указано, а Писатель все не появлялся, все никак не мог расстаться с банькой, не весь еще жар вобрал в себя.
И то, что он был дольше, больше, задерживался или обгонял, поторапливал или сдерживал, спрашивал или просвещал, печалился или радовался, и маленькие стопки холодной водки, из холодильника, которые поставил перед нами как равными, и пламя в камине, колеблющееся, и тени, скользящие по потолку, и румянец на скулах, поверх бороды, - все было словно уже было видено однажды: и ждали, и сидели, и поднимали к губам, воспоминание в воспоминании.