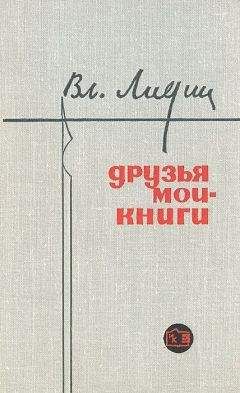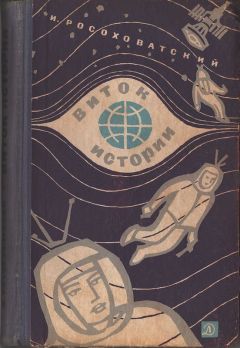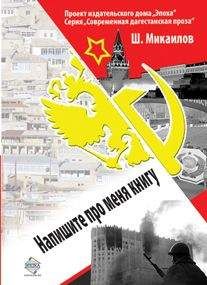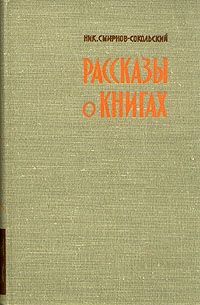Иван Тургенев - Том 3. Записки охотника
И Петр Петрович горько зарыдал.
— Ведь что вы думаете? — продолжал он, ударив кулаком по столу и стараясь нахмурить брови, меж тем как слезы всё еще бежали по его разгоряченным щекам, — ведь выдала себя девка, пошла да и выдала себя…
— Лошади готовы-с! — торжественно воскликнул смотритель, входя в комнату.
Мы оба встали.
— Что же сделалось с Матреной? — спросил я.
Каратаев махнул рукой.
Спустя год после моей встречи с Каратаевым случилось мне заехать в Москву. Раз как-то, перед обедом, зашел я в кофейную*, находящуюся за Охотным рядом, — оригинальную, московскую кофейную. В бильярдной, сквозь волны дыма, мелькали раскрасневшиеся лица, усы, хохлы, старомодные венгерки и новейшие святославки. Худые старички в скромных сюртуках читали русские газеты. Прислуга резво мелькала с подносами, мягко ступая по зеленым коврикам. Купцы с мучительным напряжением пили чай. Вдруг из бильярдной вышел человек, несколько растрепанный и не совсем твердый на ногах. Он положил руки в карманы, опустил голову и бессмысленно посмотрел кругом.
— Ба, ба, ба! Петр Петрович!.. Как поживаете?
Петр Петрович чуть не бросился ко мне на шею и потащил меня, слегка качаясь, в маленькую особенную комнату.
— Вот здесь, — говорил он, заботливо усаживая меня в кресла, — здесь вам будет хорошо. Человек, пива! нет, то есть шампанского! Ну, признаюсь, не ожидал, не ожидал… Давно ли? надолго ли? Вот, привел бог, как говорится, того…
— Да, помните…
— Как не помнить, как не помнить, — торопливо перервал он меня, — дело прошлое… дело прошлое…
— Ну, что вы здесь поделываете, любезный Петр Петрович?
— Живу, как изволите видеть. Здесь житье хорошее, народ здесь радушный. Здесь я успокоился.
И он вздохнул и поднял глаза к небу.
— Служите?
— Нет-с, еще не служу, а думаю скоро определиться. Да что служба?.. Люди — вот главное. С какими я здесь людьми познакомился!..
Мальчик вошел с бутылкой шампанского на черном подносе.
— Вот и это хороший человек… Не правда ли, Вася, ты хороший человек? На твое здоровье!
Мальчик постоял, прилично тряхнул головкой, улыбнулся и вышел.
— Да, хорошие здесь люди, — продолжал Петр Петрович, — с чувством, с душой… Хотите, я вас познакомлю? Такие славные ребята… Они все вам будут ради. Я скажу… Бобров умер, вот горе.
— Какой Бобров?
— Сергей Бобров. Славный был человек; призрел было меня, невежу, степняка. И Горностаев Пантелей умер. Все умерли, все!
— Вы всё время в Москве прожили? Не съездили в деревню?
— В деревню… мою деревню продали.
— Продали?
— Сукциона… Вот, напрасно вы не купили!
— Че́м же вы жить будете, Петр Петрович?
— А не умру с голоду, бог даст! Денег не будет, друзья будут. Да что деньги? — прах! Золото — прах!
Он зажмурился, пошарил рукой в кармане и поднес ко мне на ладони два пятиалтынных и гривенник.
— Что это? ведь прах! (И деньги полетели на пол.) А вы лучше скажите мне, читали ли вы Полежаева?*
— Читал.
— Видали ли Мочалова в Гамлете?
— Нет; не видал.
— Не видали, не видали… (И лицо Каратаева побледнело, глаза беспокойно забегали; он отвернулся; легкие судороги пробежали по его губам.) Ах, Мочалов, Мочалов! «Окончить жизнь — уснуть», — проговорил он глухим голосом.
Не более! и знать, что этот сон*
Окончит грусть и тысячи ударов,
Удел живых… Такой конец достоин
Желаний жарких! Умереть… уснуть…
— Уснуть, уснуть! — пробормотал он несколько раз.
— Скажите, пожалуйста, — начал было я; но он продолжал с жаром:
Кто снес бы бич и посмеянье века,
Бессилье прав, тиранов притесненье,
Обиды гордого, забытую любовь,
Презренных душ презрение к заслугам,
Когда бы мог нас подарить покоем
Один удар… О, помяни
Мои грехи в твоей святой молитве!
И он уронил голову на стол. Он начинал заикаться и завираться.
— «И через месяц!» — произнес он с новой силой.
Один короткий, быстротечный месяц!
И башмаков еще не износила,
В которых шла, в слезах,
За бедным прахом моего отца!
О небо! Зверь без разума, без слова
Грустил бы долее…
Он поднес рюмку шампанского к губам, но не выпал вина и продолжал:
Из-за Гекубы?
Что он Гекубе, что она ему,
Что плачет он об ней?..
А я… презренный, малодушный раб, —
Я трус! Кто назовет меня негодным?
Кто скажет мне: ты лжешь?
А я обиду перенес бы… Да!
Я голубь мужеством: во мне нет желчи,
И мне обида не горька…
Каратаев уронил рюмку и схватил себя за голову. Мне показалось, что я его понял.
— Ну, да что, — проговорил он наконец, — кто старое помянет, тому глаз вон… Не правда ли? (И он засмеялся.) На ваше здоровье!
— Вы останетесь в Москве? — спросил я его.
— Умру в Москве!
— Каратаев! — раздалось в соседней комнате. — Каратаев, где ты? Поди сюда, любезный че-а-эк!
— Меня зовут, — проговорил он, тяжело поднимаясь с места. — Прощайте; зайдите ко мне, если можете, я живу в***.
Но на другой же день, по непредвиденным обстоятельствам, я должен был выехать из Москвы и не видался более с Петром Петровичем Каратаевым.
Свидание
Я сидел в березовой роще осенью, около половины сентября. С самого утра перепадал мелкий дождик, сменяемый по временам теплым солнечным сиянием; была непостоянная погода. Небо то всё заволакивалось рыхлыми белыми облаками, то вдруг местами расчищалось на мгновенье, и тогда из-за раздвинутых туч показывалась лазурь, ясная и ласковая, как прекрасный глаз. Я сидел и глядел кругом, и слушал. Листья чуть шумели над моей головой; по одному их шуму можно было узнать, какое тогда стояло время года. То был не веселый, смеющийся трепет весны, не мягкое шушуканье, не долгий говор лета, не робкое и холодное лепетанье поздней осени, а едва слышная, дремотная болтовня. Слабый ветер чуть-чуть тянул по верхушкам. Внутренность рощи, влажной от дождя, беспрестанно изменялась, смотря по тому, светило ли солнце или закрывалось облаком; она то озарялась вся, словно вдруг в ней всё улыбнулось: тонкие стволы не слишком частых берез внезапно принимали нежный отблеск белого шёлка, лежавшие на земле мелкие листья вдруг пестрели и загорались червонным золотом, а красивые стебли высоких кудрявых папоротников, уже окрашенных в свой осенний цвет, подобный цвету переспелого винограда, так и сквозили, бесконечно путаясь и пересекаясь перед глазами; то вдруг опять всё кругом слегка синело: яркие краски мгновенно гасли, березы стояли все белые, без блеску, белые, как только что выпавший снег, до которого еще не коснулся холодно играющий луч зимнего солнца; и украдкой, лукаво, начинал сеяться и шептать по лесу мельчайший дождь. Листва на березах была еще почти вся зелена, хотя заметно побледнела; лишь кое-где стояла одна, молоденькая, вся красная или вся золотая, и надобно было видеть, как она ярко вспыхивала на солнце, когда его лучи внезапно пробивались, скользя и пестрея, сквозь частую сетку тонких веток, только что смытых сверкающим дождем. Ни одной птицы не было слышно: все приютились и замолкли; лишь изредка звенел стальным колокольчиком насмешливый голосок синицы. Прежде чем я остановился в этом березовом леску, я с своей собакой прошел через высокую осиновую рощу. Я, признаюсь, не слишком люблю это дерево — осину — с ее бледно-лиловым стволом и серо-зеленой, металлической листвой, которую она вздымает как можно выше и дрожащим веером раскидывает на воздухе; не люблю я вечное качанье ее круглых неопрятных листьев, неловко прицепленных к длинным стебелькам. Она бывает хороша только в иные летние вечера, когда, возвышаясь отдельно среди низкого кустарника, приходится в упор рдеющим лучам заходящего солнца и блестит и дрожит, с корней до верхушки облитая одинаковым желтым багрянцем, — или, когда, в ясный ветреный день, она вся шумно струится и лепечет на синем небе, и каждый лист ее, подхваченный стремленьем, как будто хочет сорваться, слететь и умчаться вдаль. Но вообще я не люблю этого дерева и потому, не остановясь в осиновой роще для отдыха, добрался до березового леска, угнездился под одним деревцом, у которого сучья начинались низко над землей и, следовательно, могли защитить меня от дождя, и, полюбовавшись окрестным видом, заснул тем безмятежным и кротким сном, который знаком одним охотникам.
Не могу сказать, сколько я времени проспал, но когда я открыл глаза — вся внутренность леса была наполнена солнцем и во все направленья, сквозь радостно шумевшую листву, сквозило и как бы искрилось ярко-голубое небо; облака скрылись, разогнанные взыгравшим ветром; погода расчистилась, и в воздухе чувствовалась та особенная, сухая свежесть, которая, наполняя сердце каким-то бодрым ощущеньем, почти всегда предсказывает мирный и ясный вечер после ненастного дня. Я собрался было встать и снова попытать счастья, как вдруг глаза мои остановились на неподвижном человеческом образе. Я вгляделся: то была молодая крестьянская девушка. Она сидела в двадцати шагах от меня, задумчиво потупив голову и уронив обе руки на колени; на одной из них, до половины раскрытой, лежал густой пучок полевых цветов и при каждом ее дыханье тихо скользил на клетчатую юбку. Чистая белая рубаха, застегнутая у горла и кистей, ложилась короткими мягкими складками около ее стана; крупные желтые бусы в два ряда спускались с шеи на грудь. Она была очень недурна собою. Густые белокурые волосы прекрасного пепельного цвета расходились двумя тщательно причесанными полукругами из-под узкой алой повязки, надвинутой почти на самый лоб, белый, как слоновая кость; остальная часть ее лица едва загорела тем золотистым загаром, который принимает одна тонкая кожа. Я не мог видеть ее глаз — она их не поднимала; но я ясно видел ее тонкие, высокие брови, ее длинные ресницы: они были влажны, и на одной из ее щек блистал на солнце высохший след слезы, остановившейся у самых губ, слегка побледневших. Вся ее головка была очень мила; даже немного толстый и круглый нос ее не портил. Мне особенно нравилось выражение ее лица: так оно было просто и кротко, так грустно и так полно детского недоуменья перед собственной грустью. Она, видимо, ждала кого-то; в лесу что-то слабо хрустнуло: она тотчас подняла голову и оглянулась; в прозрачной тени быстро блеснули передо мной ее глаза, большие, светлые и пугливые, как у лани. Несколько мгновений прислушивалась она, не сводя широко раскрытых глаз с места, где раздался слабый звук, вздохнула, повернула тихонько голову, еще ниже наклонилась и принялась медленно перебирать цветы. Веки ее покраснели, горько шевельнулись губы, и новая слеза прокатилась из-под густых ресниц, останавливаясь и лучисто сверкая на щеке. Так прошло довольно много времени; бедная девушка не шевелилась, — лишь изредка тоскливо поводила руками и слушала, всё слушала… Снова что-то зашумело по лесу, — она встрепенулась. Шум не переставал, становился явственней, приближался, послышались наконец решительные, проворные шаги. Она выпрямилась и как будто оробела; ее внимательный взор задрожал, зажегся ожиданьем. Сквозь чащу быстро замелькала фигура мужчины. Она вгляделась, вспыхнула вдруг, радостно и счастливо улыбнулась, хотела было встать и тотчас опять поникла вся, побледнела, смутилась — и только тогда подняла трепещущий, почти молящий взгляд на пришедшего человека, когда тот остановился рядом с ней.