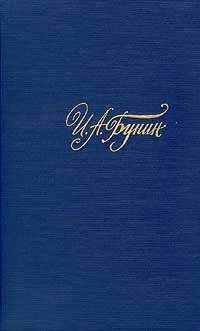Иван Бунин - Том 4. Повести и рассказы 1912-1916
Кончив деревню, он пошел в короткий переулочек, на выезд в степь, И в глаза ему глянуло лучистое, погожее апрельское солнце, опускавшееся далеко за равниной, за серыми парами и яровыми взметами. На самом выезде, на повороте указанной блестящей дороги в ту дальнюю притынную деревушку, где думал заночевать нищий, стояла небольшая новая изба, плотно крытая вприческу лимонного цвета старновкой. Ото всех отделясь, поселились тут с год тому назад, — еще щепа валялась кое-где, — муж с женой, люди хозяйственные и приятные, тайком торговавшие водкой. Нищий и пошел прямо к этой избе: штаны можно было продать хозяину ее; да любил он и просто заходить в нее, любил за то, что живет она какой-то своей особенной жизнью, тихой и прочной, стоит на выезде и глядит чистыми окошечками на закат солнца, при котором допевают в холодеющем воздухе свои вечерние песни жаворонки. Под глухой стеной, выходящей в переулок, была тень. А с лица было весело. Прошлой осенью хозяин посадил под окошечками три куста акации. Теперь они принялись и уже опушились желтоватой зеленью, нежной, как на вербе. Обойдя их, нищий вошел через сени в горницу.
Сперва, после солнца, он ничего не видел, хотя солнце и сюда глядело, освещая голубой прозрачный дым, плававший над столом, под висячей жестяной лампой. Выгадывая время для глаз, он долго кланялся, крестился на новую фольговую икону в углу. Потом сложил мешок и палку возле двери на пол и различил крупного мужика в лаптях и оборванном полушубке, сидевшего спиной к двери, на скамейке за столом, а на лавке — нарядную хозяйку.
— Благодать вам господня, — негромко сказал он ей, еще раз кланяясь. — С прошедчим праздником.
Хотел было спеть «Христос воскресе», да почувствовал, что будет некстати, и подумал:
«А хозяина-то, знать, дома нету… Жалко…»
Хозяйка была хороша собой, с ладным станом, с белыми руками, точно и не баба простая. Одета она была, как всегда, по-праздничному: перловое ожерелье, миткалевая сорочка с тонкими вздернутыми рукавами, красным и синим расшитая занавеска, шерстяная кубовая юбка в кирпичную клетку и грубые, но крепко и по ноге сшитые полусапожки со стальными подковками. Склонив аккуратную голову, чистое лицо, она вышивала рубаху мужу. Когда нищий поздоровался, она подняла на него твердые, без блеску глаза, пристально посмотрела и приветливо кивнула. Потом, легонько вздохнув, отложила работу, ловко воткнула в нее иголку, прошла, постукивая по деревянному полу полусапожками и виляя задом, к печке, вынула из шкапчика косушку водки и толстую чашку в синих разводах.
— А притомился, однако… — как бы про себя сказал нищий — и в извинение за водку, и слегка смущаясь молчанием не повернувшегося к нему мужика.
Мягко ступая лаптями, скромно обойдя его, он сел на другую лавку, на угол стола, напротив. А хозяйка поставила перед ним косушку, чашку и вернулась к работе. Тогда тяжело поднял голову этот здоровый оборванный степняк, — перед ним зеленел полштоф, — и, прищурившись, уставился на своего скромного собутыльника, Может, он и притворялся малость; но все же лицо его воспалено было, глаза пьяны, налиты мутным блеском хмеля, пересмягшие губы полураскрыты, точно в жару: видно, уж не первый день пил он. И нищий слегка подтянулся и осторожно стал наливать свою чашку. Что ж, мол, всякий свое пьет… тут шинок, и мы друг дружке не мешаем. Он поднял голову, и туманно-черные глаза его цвета спелого терна и весь выветренный и загрубевший в степи лик ничего не выражали.
— Где таскался? — грубо и шало спросил мужик. — Воровать пришел, благо народ в поле?
— Зачем воровать? — ровно и скоромно отозвался нищий. — У меня шесть человек детей было, свой дом, хозяйство…
— Слепой, слепой, а небось сколько натаскал перьев, прутьев у свою яругу!
— Зачем? Я в черной работе на шахтах харцызских десять лет работал…
— Энто не работа. Энто…
— Ты лишнего не говори, — не возвышая голоса, не поднимая ресниц, сказала хозяйка и перекусила нитку. — Я похабного не слушаю. От мужа еще не слыхала.
— Ну, молчи, не буду… барыня! — сказал мужик. — Низвините… Я тебя испрашиваю, — сказал он, нахмуриваясь, нищему, — какие такие шахты, когда земля не сеяна, не скорожена?
— Да ведь, конечно… у кого она есть, к примеру…
— Погоди, я тебе умней! — сказал мужик, хлопнув ладонью по столу. — Отвечай на вопрос: в солдатах служил?
— Ундер-цер десятого гренадерского малороссийского генерал-фитьмаршала графа Румянцева-Задунайского полка… Как же так не служил?
— Молчи, не вякай лишнего! В каком году взяли?
— Семьдесят шестом году, в ноябре месяце.
— Ничем не был провинен?
— Никак нет.
— Начальство ублажал?
— Не мог того не делать. Присягу примал.
— А это что за шрам на шее? Понял ай нет, куда я вижу? Это я его испытываю, — сказал мужик, угрюмо двигая бровями, но меняя властный тон на более простой и обращая к хозяйке свое шальное лицо, золотисто освещенное сквозь табачный дым закатом. — Я его насквозь вижу… Не лаптем щи хлебаю!
И опять нахмурился, взглянув на нищего:
— Перед святым крестом-евангелием преклонялся?
— Так точно, — ответил нищий, успевший выпить, вытереться рукавом, сесть опять прямо и придать своему лицу и туманным глазам бесстрастное выражение.
Мужик мутно оглядел его:
— Встань передо мной!
— Не шуми. Тебе сказано ай нет? — спокойно вмешалась хозяйка.
— Постой ты за ради бога, — отмахнулся мужик и повторил: — Встань передо мной!
— Да что-й-то вы, ей-богу… — забормотал было нищий.
— Встань, тебе говорят! — крикнул мужик. — Я тебе вопрос сделаю.
Нищий поднялся и переступил с ноги на ногу.
— Руки по швам! Так. Пачпорт есть?
— Да ай вы урядник, что ли…
— Молчи, не смей так со мной балакать! Я умней тебе! Я сам тянулся. Показывай сию минуту!
Покорно, поспешно отстегнув крючки армяка, потом овчинной куртки, нищий долго рылся за пазухой. Наконец вытащил завернутую в красный платок бумагу.
— Подай сюда, — отрывисто сказал мужик.
И, развернув платочек, нищий подал ему истертую серую книжечку с большой сургучной печатью. Мужик неловко раскрыл ее корявыми пальцами и, делая вид, что читает, далеко отставил от себя, откинулся и долго смотрел сквозь дым в краснеющий свет зари.
— Так. Вижу. Все в аккурате. Бери назад, — с трудом сказал он спекшимися губами. — Я беден, беден, я, может, другую весну не пашу, не сею… меня люди зарезали, а у него, у собаки, в ногах валялся… а мне, может, цены нету… А что наворовал, сказывай, а то убью сейчас! — крикнул он свирепо. — Я все знаю, все прийзошел… сам в смоле кипел… Жизнь нам господь дает, а отымает ее всякая гадина… Давай сюда мешок, и боле никаких!
Хозяйка только головой качнула и отклонилась от вышивки, разглядывая ее. Нищий пошел к двери, подал мужику и мешок. Мужик взял, подложил возле себя на скамейку и, приминая его, сказал:
— Правильно. Теперь садись, давай побалакаем. Я все эти дела разбяру. Я свою ревизию сделаю, не бойся!
И замолчал, уставившись в стол.
— Вясна… — пробормотал он. — Ах, да разнесчастная субботушка, нельзя в поле работать… Делай! — крикнул он, стараясь щелкнуть пальцами. —
Пошла барыня плясать,
Голубые пальцы…
И опять замолчал. Хозяйка заглаживала наперстком вышивку.
— Я корову пойду доить, — сказала она, поднимаясь с места. — Огня без меня не вздувайте, а то еще пожару спьяну наделаете.
Мужик очнулся.
— Господи! — воскликнул он обиженно. — Хозяюшка! Да неужто мы… Об мужу небось скучились?
— Это не твоя печаль, — сказала хозяйка. — Он в городе, по делу. По кабакам не таскается.
— Потаскаешься! — сказал мужик. — Что ж мне, ай под дорогу теперь выходить? Вам, чертям, богатым, хорошо…
Хозяйка, захватив подойник, вышла. В избе темнело, было тихо, и розовый свет разливался в темноте, мягкой, весенней. Мужик, облокотясь на стол, дремал, насасывая потухшую цигарку. Нищий сидел смирно, неслышно, прислоняясь к темному простенку, и лица его почти не было видно.
— Пиво пьешь? — спросил мужик.
— Пью, — послышался негромкий ответ. Мужик помолчал.
— Бродяги мы с тобой, — сказал он хмуро и задумчиво. — Сволота несчастная… побирушки… Мне с тобой скушно!
— Это правильно…
— А пиво я люблю, — опять помолчав, громко сказал мужик. — Не держит, стерва! А то бы я и пива выпил… и закусил бы… у меня язык намок, есть хочется… Закусил бы и выпил… да… А эта, хозяйка, хороша лицом! Мне бы такую-то на пристяжку, я бы… Ну, ничего, сиди, сиди… Я слепых уважаю. Придет престольный праздник, я их, слепых-то, бывало, человек двадцать за стол посажу, у нас двор был — поискать такого-то! Они мне и стих споют и покланяются… Стихи можешь петь? Про Алексея Божьи человеки? Я этот стих долюбаю. Бери чашку, — своей угощу…