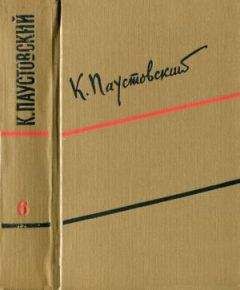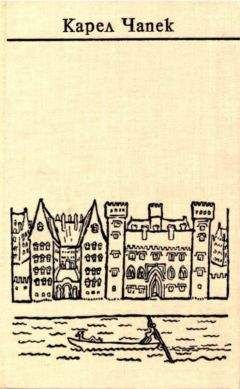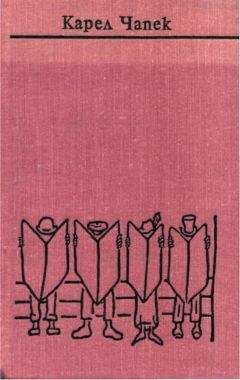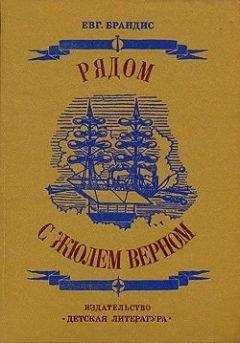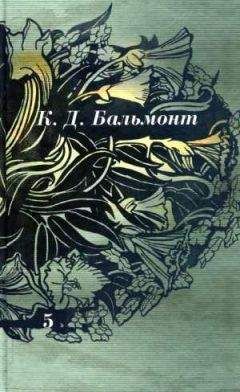Константин Бальмонт - Том 6. Статьи, очерки, путевые заметки
А дни идут, и швыряют новые заботы и задачи, и готовят новую ставку душ. Если придет новая гроза, кто ее встретит? Если не придет, – в розни истлевающие воли просто истлеют до конца, до пепла, хуже: до чадного угашения.
Есть маленькие утешения в больших бедах. Дружба – одно из лучших. Но что есть дружба и что она? Если весь воздух роковых переломных дней полон движением ежеминутно меняющихся и ломающихся духовных ценностей, люди не видят друг друга и, привычно повторяя слова дружбы, даже не задевают этого великолепного кристалла. Ничего. Хорошо хоть на минуту поверить, будто с кем-то дружен.
Я иду к французскому романисту, одному из наиболее талантливых, к Эдмону Жалю. Его романы «L'Escalier d'or», «Золотая Лестница», «Le reste est silence», «Остальное – молчание», «Les profondeurs de la mer», «Глубины моря», и многие другие, правда, написаны очень изящно, и часто он видит души. Я звоню. Вот он сам вышел навстречу и улыбается. В прихожей его, прежде чем он открыл дверь, меня приветствуют своим чириканьем заморские птицы, а когда я вхожу, мне радостно видеть длиннохвостую птичку-вдовушку, сестру тех, что я видал во время своих дальних странствий в тропических и предполярных краях. Она смотрит на меня своим черным глазком, и я сразу чувствую себя опять в Новой Зеландии, где беззаботны красивые Маори, в Австралии, где живы еще и кенгуру и эвкалипты в плоскогорьях Явы, где еще дымятся вулканы. Жалю мне нравится не только потому, что он приветлив и умен, и не только потому, что он единственный из французов запросто говорит и о Тургеневе, и о Стриндберге, и об Ибсене, и о всех современных русских писателях, а из Достоевского, в разговоре, читает иногда наизусть целые страницы, – нет, скажу ли, он мне нравится особенно потому, что, хоть француз, он также и мало похож на француза. Не остроумничает, не говорит внешних вежливостей, любит говорить о чем-нибудь неожиданном, и обо всем умеет сказать что-нибудь особенное, совсем не стараясь быть оригинальным и превосходным. Правда, он провансалец, в его жилах пляшет, верно, не одна капля и крови сарацинской, и крови эллинской. На столе его лежат детские игрушки, сделанные русскими кустарями. Детей у него, однако, нет. На одном из столиков, среди китайской мебели, нечто вроде маленького святилища. Мое сердце вздрагивает. Наши русские иконы. А на стене, над ними, прекрасный портрет нашего страстотерпца, мученика глубин русского духа, Достоевского, о котором он говорит, что после Шекспира не было написано ни одного создания, столь замечательного, как «Бесы».
Мы говорим, мы молчим, и нам не неловко молчать. Я встаю и хочу проститься. Он сидит и ласково-капризно говорит: «Dites!» О, это пленительное непереводимое французское «Dites». «Скажите, ведь вы можете еще побыть у меня пять минут?» Я покорно сажусь и сижу в узорной беседе еще чуть не целый час.
Я иду один по чужой улице. Нет, моя душа не совсем одна. Хорошо человеческой душе коснуться другой души.
Без русла
Три года тому назад я уехал из Москвы и через Эстонию приехал в Германию, а оттуда во Францию. Выехать из Москвы, увозя с собой семью, – три женские существа, приговоренные докторами и голодом к смерти, – было очень трудно, почти невозможно. Мне, однако, это удалось, как удалось и Кусевицкому с женой. Мы ехали в одном поезде. Тогда еще не выпускали заграницу никого, кроме своих. А ни Кусевицкий, ни я, мы своими не были. Наш отъезд был некоторым чудом, и как чудо мы его воспринимали. В Нарве мы еще не чувствовали себя уехавшими, или, вернее, впервые поняли, с чувством безмерной тяжести, спавшей с плеч, что мы в преддверии Европы.
Ревель – хоть и эстонский, все же еще и такой русский, по крайней мере три года тому назад, показался мне обетованным городом, именно в том смысле, в каком я когда-то радовался первому европейскому городу, в который я попадал, покинув Москву или Петербург времен, ныне исчезнувшего, царизма. Какая ирония судьбы. Я дважды был изгнанником при старом порядке. В 1902-м году за стихи о Маленьком султане я, без своего желания, провел год в Европе; и после революции 1905-го года, после написания и опубликования книги революционных стихов «Песни мстителя», я провел вне России, без своего на то желания, семь лет. Я, считавшийся и бывший революционером, снова, в третий раз, после того, как в России осуществилась революция, живу уже три года в Европе, без малейшего к тому желания. Изгнанник ли я? Вероятно, а впрочем даже я и не знаю. Я не бежал, а уехал. Я уехал на полгода, и не вернулся. Зачем бы я вернулся? Чтобы снова молчать, как писатель, ибо печатать то, что я пишу, в теперешней Москве нельзя, и чтоб снова видеть, как, несмотря на все мои усилия, несмотря на все мои заботы, мои близкие умирают от голода и холода? Нет, я этого не хочу. Но нет дня, когда бы я не тосковал о России, нет часа, когда бы я не порывался вернуться. И когда мне говорят мои близкие и мои друзья, что той России, которую я люблю, которую я целую жизнь любил, все-равно сейчас нет, мне эти слова не кажутся убедительными. Россия всегда есть Россия, независимо от того, какое в ней правительство, независимо от того, что в ней делается и какое историческое бедствие или заблуждение получило на время верх и неограниченное господство. Я поэт. Я не связан. Я полон беспредельной любви к миру и к моей матери, которая называется Россия. Там, в родных местах, так же как в моем детстве и в юности, цветут купавы на болотных затонах, и шуршат камыши, сделавшие меня своим шелестом, своими вещими шепотами тем поэтом, которым я стал, которым я был, которым я буду, которым я умру. Там, в родных моих лесах, слышно ауканье, и я люблю его больше, чем блестящую музыку мировых гениев, поют соловьи, над полями возносятся, рассыпая ожерелья солнечных песен, жаворонки. Там везде говорят по-русски; это язык моего отца и моей матери, это язык моей няни, моего детства, моей первой любви, почти всех моих любвей, почти всех мгновений моей жизни, которые вошли в мое прошлое, как неотъемлемое свойство, как основа моей личности. Там говорят «до свиданья», «милый», «прощай», «люблю», и на лесной опушке кличет эхо, которое откликалось мне, когда еще весь мир казался добрым и вся жизнь казалась тайной.
Ах, мне тяжело. Мне душно от того воздуха, которым ды-шут изгнанники, косо смотрящие друг на друга и вечно друг друга подозревающие, совсем так же, как подозревают друг друга люди и там, в родных моих местах, в обезумленных, в обездоленных, в измененных. Мне душно и от воздуха летнего Парижа, где я никому не нужен и где ничто для меня не нужно.
Не думайте, что я зову кого-нибудь из уехавших или бежавших, из уехавших и оставшихся, из спасшихся от тяжких мучений, может быть, смерти, – очертя голову, вернуться в теперешнюю Россию, где право растоптано, где слово несвободно, где нет первооснов человеческой справедливости. Нет, я говорю только о себе, и да будет же мне, хоть здесь в пустыне, даровано безраздельное право быть собой, быть поэтом, чувствовать иначе, чем другие, и иначе мыслить, и иначе поступать. Я говорю только о себе, и не делаю никаких общих выводов.
Здесь, в свободной, будто бы свободной, Европе я чувствую себя, душевно, таким же связанным, каким я чувствовал себя в последний год в Москве, где я жил бок-о-бок с навязавшимися мне жильцами, нагло распоряжавшимися в моей квартире, где я голодал, где я говорил иногда моей девочке, бессильной заснуть: «не плачь: завтра, быть может, мы поедим». Моя девочка стала за эти три года красивой девушкой, живой и остроумной. Я уже не говорю ей, – за ненадобностью, – таких утешений, а когда подходит нужда, – она все же не такая острая, – и если нет денег на настоящий обед, можно сварить суп из старого недоеденного хлеба. Но здесь мне тоже нужно произносить и перед ней, и перед другими близкими, и перед близкими-далекими, и перед самим собой, много разных утешений, в которые не веришь и которые не оправдываются. Основное остается, как правило жизни каждого дня и каждого нового тяжелого месяца. Это основное: я на чужбине, я вне действительной связи с душою здешней жизни, и я вне действительной связи с моей Матерью, с моей Родиной, хоть от меня туда, и оттуда до меня, доходят веяния души, доходит голос сердца, которое бьется, еще живо, не умерло, но бьется тяжело, с мучением, которому исхода не вижу. И вот, чем дальше иду я по дорогам чужбины, тем слабее моя связь с моей родиной, и тем чаще я спрашиваю себя с горечью: не лучше ли быть мне в тюрьме – там, чем на свободе – здесь? И действительно ли я здесь – на свободе?
Русла нет. А река без русла разве свободна? Она плещется и разливает свои воды, где и не нужно. Даже реке необходимо русло. А изгнанническая жизнь даже и не река в разливе: много беднее, гораздо менее в ней красоты и содержания.
К чему же мне прильнуть? Я поэт и человек. Нет мне места, как человеку и поэту. Сколько бы литературных достоинств ни было в моем творчестве, оно не нужно, если я не в близости с той или иной политической группой, а возможности печататься находятся в руках тех или иных политических групп. Когда в 1920-м году, в Москве, меня, по причине некоего ложного доноса, будто я в стихах, где-то напечатанных, восхвалял Деникина, пригласили вежливенько в Чека и между прочим дама-следователь вопросила меня: «К какой политической партии вы принадлежите?» – Я ответил кратко: «Поэт».