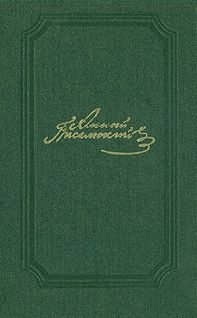Алексей Писемский - В водовороте
– Нет, не знаю, извините! – отвечал кондитер, выглядывая на нее из-под зеленого зонтика своего.
– Я Елизавета Петровна Жиглинская.
– А, вот кто… Очень рад, покорнейше прошу садиться! – заговорил кондитер гораздо более любезным голосом: в прежние годы, когда у Жиглинских был картежный дом, почтенный старец готавливал у них по тысяче и по полторы обеды.
– Я к вам с делом, – продолжала Елизавета Петровна, – приготовьте-ка мне завтрачек, – у меня дочь родила.
– Дочь?.. Вот как! – воскликнул старец еще приветливее. – За кем же она замужем? – присовокупил он.
– Да тут за одним господином… Его, впрочем, нет в Москве.
– Нет в Москве? – повторил, как бы соображая кое-что про себя, многоопытный старец.
– Завтрачек вы мне сделайте персон на десять, рублей во сто серебром.
– Можно это! – протянул старец, и в его почти омертвелом лице на мгновение блеснул луч какого-то удовольствия: он сразу же тут сообразил, что от этого дела рублей с полсотни наживет.
– Завтрачек, понимаете, чтобы приличный, дворянский был.
– Дворянский будет! – подтвердил старик. – А в карты после крестин будут играть?
– Конечно, будут! – отвечала, неизвестно на каком основании, Елизавета Петровна.
– Чтобы карты от моих лакеев были! – объяснил старец.
– От ваших, от ваших! – успокоила его Елизавета Петровна и затем, оставив ему адрес Елены, отправилась, наконец, домой. Всем этим днем и тем, что случилось с ней, Елизавета Петровна была очень довольна.
На другой день часу в 12-м, лица, долженствующие участвовать в крещении, собрались. Князь, впрочем, по предварительному соглашению с Еленой, не пришел совсем, Елпидифора Мартыныча тоже не было: не получая до сих пор от князя ни полушки, он, наконец, разобиделся и дня два уже не был у Елены.
Елизавета Петровна, разумеется, явилась раньше всех, в чепце с цветами, набеленная, нарумяненная; лицо ее дышало важностью и удовольствием. Акушерка тоже была довольно нарядна и довольно весела; но зато Миклаков, в новом своем фраке, в новом белье и белом даже галстуке, сидел мрачный в зале на стуле. Он сам напросился на кумовство, а теперь и не рад был тому, потому что вся эта процедура начинала казаться ему страшно скучною. Наконец, пришли священники. Отец Иоанн был в самой новенькой своей гарнитуровой рясе; подстриженные волосы и борода его были умаслены, сапоги чистейшим образом вычищены. Он велел на эти крестины взять весьма дорогие ризы, положенные еще покойным отцом князя Григорова в церковь; купель тоже была (это, впрочем, по распоряжению дьякона) вычищена. Церемония началась. Отец Иоанн одной своей гарнитуровой рясой и сильно вычищенными сапогами уже произвел на Миклакова весьма неприятное впечатление, но когда он начал весьма жеманно служить, выговаривая чересчур ясно и как бы отчеканивая каждое слово, а иногда зачем-то поднимая кверху свои голубые глаза, то просто привел его в бешенство. «Вот фигляр-то и комедиант!» – думал Миклаков, стоя у купели. Затем отец Иоанн, говоря куму и куме, чтоб они дунули и плюнули, точно как будто бы усмехнулся при этом. «А, так ты вот еще из каких… Ну, я теперь тебя насквозь понимаю!» – продолжал почти с бешенством думать Миклаков. Он имел своим правилом, что если кто поп, тот и будь поп, будь набожен, а если кто офицер, то будь храбр и не рассуждай, но если выскочил умственно и нравственно из своего положения, так выходи вон и ищи себе другой деятельности. Отца Иоанна он решился при первом удобном случае срезать на чем свет стоит. По окончании церемонии дьячки, забрав купель и облачение, отправились домой. Отец Иоанн ни на каких обедах и завтраках не позволял им оставаться, так как им всегда почти накрывали или в лакейской, или где-нибудь в задних комнатах: он не хотел, чтобы духовенство было так публично унижаемо; сам же он остался и уселся в передний угол, а дьякон все ходил и посматривал то в одну соседскую комнату, то в другую, и даже заглядывал под ларь в передней. Ему все хотелось увидать князя Григорова, который, по его мнению, непременно должен быть где-нибудь тут. Елизавета Петровна, расплакавшаяся от полноты чувств во время церемонии, по окончании ее сейчас же повела Миклакова поздравить родильницу.
Елена лежала на постели в новеньком нарядном чепчике, в батистовой белейшей кофте и под розовым одеялом. Таким образом нарядиться ее почти насильно заставила Елизавета Петровна и даже сама привезла ей все это в подарок.
– Ну, поздравляю вас, поздравляю! – говорил Миклаков Елене.
– С чем, с чем? – повторила та дважды и как бы укоризненным голосом.
Елизавета Петровна, нисколько, разумеется, не понявшая подобного возражения дочери, прошла в другую комнату, чтобы поскорее велеть подавать священникам чай.
Когда Миклаков снова вернулся в залу, его спросил дьякон своим густым и осиплым басом:[114]
– Ваш чин и фамилия для записания в книгу?
– Надворный советник Миклаков, – отвечал ему тот.
– Благодарю! – сказал дьякон и записал фамилию на бумажке.
Отец Иоанн внимательно вслушался в ответ Миклакова. Он не преминул догадаться, что это был тот самый сочинитель, про которого он недавно еще читал в одном журнале ругательнейшую статью.
Отец Иоанн в натуре своей, между прочим, имел два свойства: во-первых, он всему печатному почти безусловно верил, – если которого сочинителя хвалили, тот и по его мнению был хорош, а которого бранили, тот худ; во-вторых, несмотря на свой кроткий вид, он был человек весьма ехидный и любил каждого уязвить, чем только мог.
– А я недавно читал критику на ваши сочинения, – начал он, кладя с заметным франтовством ногу на ногу.
– На мои сочинения? – спросил Миклаков несколько уже удивленным голосом.
– Да, – отвечал ему отец Иоанн с важностью. – Тут, – прибавил он с некоторой расстановкой, – во многом вас порицают, и я нахожу, что некоторые из порицаний справедливы и основательны.
– Вы находите? – повторил Миклаков.
В голосе его послышался какой-то хрип, и если б отец Иоанн знал, какую он бурю злобы поднимал против себя в душе Миклакова, то, конечно, остерегся бы говорить ему подобные вещи. Миклаков решился уже теперь не продернуть попенка, а просто-напросто пугнуть его хорошенько. Сделав над собой всевозможное усилие, чтобы овладеть собою, он прежде всего вознамерился приласкаться к отцу Иоанну и, пользуясь тем, что в это время вошла в залу Елизавета Петровна и общим поклоном просила всех садиться за завтрак, параднейшим образом расставленный официантами старца, – он, как бы совершенно добродушным образом, обратился к нему:
– Что нам, батюшка, предаваться бесполезным литературным разговорам!.. Выпьемте-ка лучше с нами водочки!
– Нет-с! Благодарю, я не пью, – отвечал отец Иоанн не без важности.
– А вы, отец дьякон? – спросил Миклаков дьякона.
– Я пью-с! – пробасил тот.
– Водку не пить, конечно, прекрасная вещь, – продолжал Миклаков, – но я все детство мое и часть молодости моей прожил в деревне и вот что замечал: священник если пьяница, то по большей части малый добрый, но если уж не пьет, то всегда почти сутяга и кляузник.
– Это есть, есть! – подтвердил с удовольствием и дьякон, улыбаясь себе в бороду.
Отец Иоанн эти слова, кажется, принял прямо сказанными на его счет, но по наружности постарался это скрыть.
– Образ жизни деревенских священников таков, – отвечал он, – что, находясь посреди невежественных крестьян, они невольно от скуки или обезумевать должны, или изощрять свой ум в писании каких-нибудь кляуз. Здесь вон есть и библиотеки и духовные концерты, – и то в нашем сане иным временем бывает крайне скучно.
– Ну, нет!.. По-моему, тут есть несколько другая причина, – возразил ему Миклаков, – они видят, что им каждодневно приходится обманывать этих невежественных крестьян, ну и совестно, люди попорядочнее и пьют со стыда!
Сам Миклаков, в продолжение всего этого разговора, пил беспрестанно и ничего почти не ел.
– Чем же они обманывают их? – спросил отец Иоанн с легким оттенком улыбки на лице.
– Как чем, батюшка? – воскликнул Миклаков. – Ах, отец Иоанн!.. Отец Иоанн!.. – прибавил он как бы дружественно-укоризненным голосом. – Будто вы не знаете и не понимаете этого…
Отец Иоанн позаметнее при этом улыбнулся, но вместе с тем указал Миклакову глазами на дьякона, как бы упрашивая его не компрометировать его и не говорить с ним о подобных вещах при этом человеке.
– Меня вот что всегда удивляло, – продолжал Миклаков, как бы вовсе не понявший его знака, – я знаю, что есть много умных и серьезно образованных священников, – но они, произнося проповеди, искренно ли убеждены в том, что говорят, или нет?
– Смотря по тому, что говорят… – отвечал отец Иоанн с прежней полуулыбкой.
– Стало быть, есть нечто и даже, может быть, несколько этих нечто, в чем вы сомневаетесь? – спросил Миклаков.
– Конечно, что нельзя же всего проверить умом человеческим, и потому многое остается неразгаданным, – отвечал опять как-то уклончиво отец Иоанн, – тайное предчувствие шептало ему, что он должен был говорить осторожно.