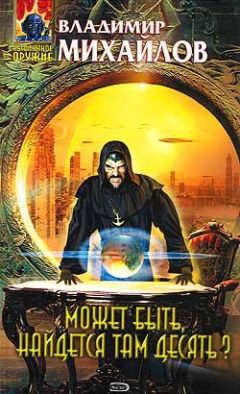Андрей Амальрик - Нежеланное путешествие в Сибирь
Не без влияния моего дяди отец окончил рабочую аспирантуру Института кинофотоискусства и в 1935 году поступил на исторический факультет Московского университета. Не успел он поступить, как тут же был отчислен: надо было освободить места для людей с партийными рекомендациями. С огромным трудом, дойдя до министра, отцу удалось отстоять свое право учиться.
В 1939 году советские войска вступили в Польшу, и отца призвали в армию. Во время краткосрочной кампании он получил чин лейтенанта. В 1940 году он служил на Северном флоте. В июне 1941 года отец закончил университетский курс и сдавал экзамены, когда началась война. Он был обязан явиться в первый день мобилизации.
Войну отец начал опять на Северном флоте. Когда немцы стояли под Москвой, отец в офицерской компании сказал, что в неудачах первых месяцев войны виноват Сталин. На следующий день его арестовали и вскоре он предстал перед трибуналом. Трибунал осудил его на восемь лет. Отец рассказывает, что перед тем, как судья зачитал приговор, толстомордый сотрудник НКВД, сидевший сбоку, протянул ему какой-то пакет, но тот, махнув рукой, сказал: «Это потом». После суда отца поместили в барак смертников, каждый день нескольких человек выводили на расстрел, и отец ждал своей очереди, думая, что в пакете, который передали судье, было распоряжение о его казни. Однако его опасения не оправдались, через несколько дней он был перевезен на остров Ягры в Белом море, в концлагерь, построенный еще англичанами во время оккупации Архангельской области в гражданскую войну. По-видимому, трудно представить себе более жуткое место: заключенных почти не кормили, и часты были случаи людоедства, а когда привозили хлеб, некоторые заключенные, отталкивая охрану, хватали буханку, с жадностью набрасывались на хлеб и тут же умирали от заворота кишек. Свирепствовала цынга, у отца до смерти сохранились на ногах черные пятна. Когда началась сталинградская битва и нужда в офицерском составе была исключительно высока, отца реабилитировали и послали на сталинградский фронт. Однако из-за железнодорожной путаницы состав, в котором он ехал, попал на Урал. Около года отец пробыл на Урале, командуя ротой особого полка резерва офицерского состава, а в 1943 году был послан на фронт. В чине капитана он командовал сначала ротой, потом батальоном и весной 1944 года был тяжело ранен осколком мины. Сутки пролежал он в болоте, пока не был подобран связистами. В полевом госпитале отцу сделали операцию, осколок пробил печень, сорвал диафрагму и повредил легкое. Не было хлороформа, и операцию пришлось делать без наркоза. Отец держал за руку сестру, и у той к концу операции остался черный след от сжатых от боли пальцев отца. Вскоре он получил инвалидность.
После войны вся страна жила в ожидании перемен, я хорошо помню долгие ночные споры отца с бабушкой, мало понятные мне, они сводились к одному: что будет дальше? Казалось, что к прежнему страшному времени не может быть возврата. Но все было совсем не так. Отец зашел в университет, чтобы сдать оставшиеся экзамены и получить диплом, однако академик Тихомиров, бывший тогда деканом исторического факультета, зная об антисталинских взглядах отца, начал обставлять это такими бюрократическими препятствиями, что отец не выдержал, стукнул своей инвалидной палкой по столу Тихомирова, так что треснула дубовая крышка, и больше в университет не ходил. Долго он занимался тем, что устанавливал и красил бульварные решетки. В это время отец начал много пить. По ночам ему снилась война. Он вскакивал с постели и с криком, который леденил меня, так что я застывал в своей кроватке, пытался опрокинуть стол или буфет. Мать, и бабушка повисали на нем с обеих сторон и как-то успокаивали его.
В 1950 году отцу удалось найти работу по исторической картографии, позднее он стал писать статьи по истории, а затем вместе со своим университетским товарищем опубликовал две научно-популярные книги по археологии. Однако отцу недолго пришлось заниматься тем делом, к которому он готовился в университете. Сказались все тяжелые последние годы. В 1957 году у него был первый маленький инсульт, и его здоровье начало катастрофически ухудшаться, а весной 1960 года были полностью парализованы правая рука и нога и он полностью лишился речи. Долгое время он пробыл в больнице, ему стало немного лучше, но он не мог уже работать, почти не мог читать, почти не мог говорить, мучительно подыскивая и неправильно выговаривая каждое слово. Тяжелым ударом была для него смерть жены. Моя мама умерла в январе 1961 года от рака мозга, и мы с отцом остались одни. С тех пор мы все время прожили вместе, почти всегда дружно, хотя нам и тяжело было жить. После смерти матери отец перенес еще один инсульт, а потом инфаркт. С огромным трудом удалось мне выхлопотать ему пенсию. В собесе тянули полгода, не давая определенного ответа: трудность заключалась в том, что после войны отец работал не в штате, а по договорам. Как ни парадоксально, помог получить пенсию КГБ. Когда там со мной разговаривали по поводу моей работы о Киевской Руси, которую я хотел отправить в Данию, я думал, что меня вышлют из Москвы. Поэтому я попросил как-то позаботиться о моем отце, который никак не может получить пенсию. Когда после этого я зашел в собес, меня приняли там с большим почтением и через день оформили пенсию. Так что я не могу поминать КГБ только черными словами.
Пока отец жил со мной, у него всегда была уверенность, что о нем есть кому позаботиться. Внезапно он остался один. Состояние отца совершенно не было безнадежным. Он не умер бы, если бы не выслали меня или если у него хотя бы была уверенность, что о нем кто-то позаботится, пока я не вернусь. По существу его убили судья Чигринов и чигриновщина, убили в самый разгар демагогической кампании за помощь фронтовикам.
На даче отец часто плакал и повторял: «Жалко Андрюшу». Его приятельница хотела утешить его: Андрей скоро вернется. «Нет, я Андрея больше не увижу», — говорил отец. Перед его отъездом на дачу мы с ним немного поспорили. С недовольным лицом подсаживая отца в машину, я не думал тогда, что вижу его последний раз. Я хорошо помню его в старости: высокого, широкоплечего, с совершенно белыми волосами и пристальным взглядом синих глаз.
Глава двадцатая
МОСКВА
Через несколько дней после приезда я встретился со своим адвокатом. Адвокат произвел на меня впечатление человека культурного и дружелюбного, а главное, в данном для меня случае, человека, понимающего ход административно-судебного механизма и, возможно, знающего какие-то выходы из лабиринта, который я считал безысходным.
— Убили-таки они вашего отца, — сказал адвокат. Однако он находил, что не следует прекращать борьбу. — В Московской городской прокуратуре сначала очень сочувственно встретили мою жалобу, — объяснил он, — но, видимо, она наткнулась на противодействие Московского управления КГБ, поэтому надо передать дело в республиканские инстанции.
Он предложил мне по тому образцу, который он мне даст, написать самому жалобу, уже в прокуратуру РСФСР, и с ней самому пойти в приемную прокуратуры. В его ходатайстве, которое он дал мне как образец, основной упор делался на то, что я постоянно не работал, ухаживая за отцом, и потому не могу считаться «тунеядцем».
— Хорошо, — сказал я, — но в прокуратуре РСФСР мне могут возразить: может быть, вы и ухаживали за отцом, но раз теперь он умер, значит он не нуждается больше в вашем уходе и вы можете оставаться в ссылке.
— Тогда сделайте вот что, — сказал адвокат, допуская такое толкование прокуратуры, — пометьте вашу жалобу числом ранее смерти отца.
Адвокат рассказал мне еще о своей встрече с судьей Чигриновым.
— Ну, как вы находите дело? — спросил Чигринов.
— По-моему, возмутительное, — сказал адвокат, — человека выслали совершенно необоснованно.
— Ну, нет, — возразил судья, — вы бы почитали, что он пишет в своих пьесах, тогда бы так не говорили.
Лишний раз я увидел, что все упирается в мои пьесы, и самые веские доказательства, что я не «тунеядец», делу не помогут. Поблагодарив адвоката за хлопоты, я все же, по размышлении, не пошел в прокуратуру. Я чувствовал себя очень подавленным, общение с чиновниками было бы для меня крайне тяжело, а главное, я нисколько не верил, что прокуратура захочет объективно разобраться в моем деле. Единственной для себя надеждой я считал — добиться на месте освобождения «по половинке». Я перед отъездом попросил своих друзей извиниться за меня перед адвокатом, что я не выполнил его инструкций и не позвонил ему.
Другим делом было получить назад изъятые при обыске вещи, поскольку я был осужден без конфискации имущества. Я разыскал делавшего обыск капитана Бушмакина, который направил меня к моему следователю Новикову. С трудом нашел я его в следственном отделе МООП. Увидев меня, он удивился и, выставив какого-то старика, которого допрашивал, пригласил в кабинет. Сразу же он попросил маршрутный лист и заговорил со мной уже без той официальности и торжественной печали, с какой говорил пока я был его подследственный. Прежде всего он подчеркнул, что ни он, ни его ведомство не имеют никакого отношения к моей ссылке.