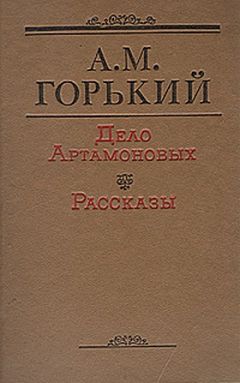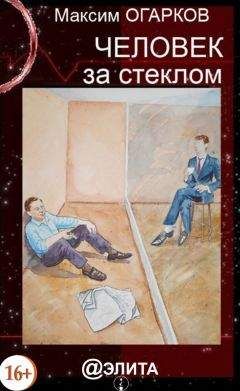Максим Горький - Том 16. Рассказы, повести 1922-1925
Чудаковато подпрыгивая, отец убежал в сад, лёг там, под липой, на траву, посмеялся и беспокойно задремал. Миронов вспомнил, как страшно было ему слушать, сидя рядом с отцом, бредовый его шёпот и как жалко было смотреть на костлявое, серое лицо милого, но непонятного человека. В тот час на его любовь к отцу легла печальная тень и возникло чувство недоверия ко всему весёлому, что рассказывал отец о своей жизни.
И тогда же он испытал одно из тех, навсегда памятных впечатлений, которые формируют душу человека: в густой листве обильно цветущей липы гудели пчёлы, этот непрерывный, струнный звук, поглощая все другие небогатые звуки знойного дня, возносился в голубую пустоту небес, превращаясь там в чудесное пение.
Миронов, удивлённый, долго, до боли в глазах, смотрел в небо и наконец, поймав там дрожащую точку, как бы тёмную звезду без лучей, догадался, что это поёт жаворонок. С того дня у него явилась потребность думать звуками, вторить всему, о чём думалось, песнью без слов.
Но за последние тринадцать дней он потерял способность заглушать думы звуками без образов, в мозг его вторгалась пёстрая пыль воспоминаний, в памяти звучал глуховатый голос отца и бессмысленные окрики всегда пьяной или раздражённой матери. Её упрёки и жалобы заставили его понять, что она замужем второй раз, а первый её муж был начальником отца и стрелял в него из пистолета.
— Горе моё, что не убил он тебя! — кричала она отцу.
Он чувствовал в их жизни что-то тёмное и опасное, может быть, преступное, чего не хотел знать, о чём боялся думать, но именно оно-то и тревожило его воображение всё более настойчиво; это продолжалось до поры, пока он начал читать книги, они рассказали ему, что существуют другие, более интересные и разрешимые тайны, есть другая, лёгкая, праздничная жизнь. Застенчивый, неловкий, он не имел друзей; легко простужался, часто прихварывал, это позволило ему читать много, и пред ним возник в голубом тумане восхищения чудесный город Париж.
Отец умер весною, в саду, окапывая яблони, — Миронов вспомнил, как жутко бормотала мать, наклонясь над трупом:
— Вот, Митя, вот… Я говорила…
Четыре года тяжёлой, стыдной жизни с пьяной матерью сделали Миронова ещё более замкнутым. Он полюбил удить рыбу, гулять одиноко в поле, в лесу, слушая пение птиц, шелест трав и листвы, странные шёпоты ветра. Особенно хорошо по праздникам слушать издали музыку военного оркестра; вблизи, когда видишь, как солдаты, надувая щёки, делают музыку, она не радует, не утешает. Иногда он брал с собою французскую грамматику и читал её, стараясь запомнить чёткие слова, но память не удерживала их, и, не слагаясь в понятную речь, они таяли, превращались в необыкновенные сочетания красивых звуков, в голубую музыку.
Лиза Розанова понравилась Миронову в первый день пасхи, когда он увидал её одетой в голубое платье; она шла из церкви, торжественный звон колоколов провожал её, щедро освещало праздничное солнце, маленькая, стройная и в то же время пышная, как необыкновенный цветок, она была вся голубая, даже в голубых чулках.
Она жила против его дома, Миронов часто видел её, но её тонкая, плоская фигурка, остроносое, птичье лицо с круглыми глазами и капризным или болезненным изгибом бескровных губ, — ничто в ней не трогало его сердца и воображения, ему даже казалось, что эта девушка так же некрасива, как сам он. И при этом он знал, что Лиза лечится козьим молоком, противно пахучим. Но тогда, в день пасхи, он радостно удивился: как же это он не заметил раньше, что Лиза красива? И с того дня он сделал её соучастницей своей мечты о певучей, голубой жизни, она стала для него соломинкой в шумном потоке непонятного и пугающего.
Познакомиться с нею он не решался, но, возвращаясь со службы, шёл мимо дома Розановых замедляя шаги; пообедав, садился с книгой у окна и следил: не появится ли девушка на улице? Иногда она выходила и, быстро топая тоненькими ножками, шла к реке, в склад лесных материалов, к своему отцу; шла она, держась близко к заборам, как бы сохраняя возможность спрятаться в первые же ворота. На узенькой спине её вздрагивала коротенькая коса тёмных волос с голубым бантом на конце. Миронову казалось, что девушка эта, так же как он, не любит, боится людей, это ещё более сближало его с нею.
Проводив её, он подходил к зеркалу и с обидой, с грустью рассматривал в нём неподвижные, тёмные глаза, разделённые широким переносьем, левый глаз немного косил, как бы заглядывая на оттопыренное восковое ухо; над верхней губою, затемнённой чёрным пухом, опускался бесформенным комом жёлтый нос, на голове непокорно торчали вихрами жёсткие, тёмные волосы. Ему казалось, что всё у него растёт в разные стороны, всё расползается, точно корни дерева на бесплодной почве; руки слишком длинны, и неприятно тонки их пальцы, рот — велик и набит такими неровными зубами, что не хотелось улыбаться.
Вообще же он не любил смотреть в зеркало, замечая, что если смотреть долго — темнеет в глазах, отражение постепенно исчезает, возможно, что вместе с ним исчезнешь и сам.
За несколько дней до смерти матери он, неожиданно для себя, сказал:
— Ты бы, мама, посватала Лизу Розанову…
Сказав, — испугался, покраснел, чувствуя, что ему стыдно и напрасно он выдал свою тайну. Но в этот день мать была трезва и, как всегда в трезвом состоянии, немногословна. Наливая сливки в чай себе, не взглянув на сына, она бросила:
— Дурак.
И только минуты через три, вздохнув, отирая пот с багрового лица, прибавила:
— Какой ты муж? Муж должен быть — вот!
Крепко сжав опухшие пальцы в большой красный кулак, она потрясла им в воздухе.
Вспоминать о ней было тяжело; чем более думал он о матери, тем более страшной и чужой ему становилась эта женщина, грубая, задыхавшаяся от жира, с огромными, мутными глазами; ему казалось, что, думая, он действительно стирает с неё пыль и от этого она непонятнее, страшней. Так же неприятно обнажалось пред ним всё, что он пытался обдумать, понять.
Миронов тряхнул головою, оглянулся — синий сумрак в комнате стал гуще, теплее. За рекою, в розоватом небе, ярко сверкала вечерняя звезда.
По улице едет телега, нагруженная мебелью, матрацами, цветами в кадках; под пальмой, на серых узлах, сидит девушка в красной кофте и белом платке, на коленях у неё клетка с какой-то чёрной птицей, должно быть — дрозд. Из-под телеги падают в пыль пёстрые, детские кубики; рядом с тяжёлой, толстоногой лошадью шагает старичок, помахивая вожжами, и, задрав голову вверх, кричит девушке сиплым голосом:
— А — куда пойдёшь? Кому скажешь?
«Старый дурак», — мысленно обругал его Миронов.
Идёт Артамон, возчик лесного склада, коренастый, тяжёлый, как медведь; его мохнатое, безглазое лицо изуродовано заячьей губою, это сделало рот его трёхугольным и противно открыло широкие, жёлтые кости свирепых зубов; рядом с ним легко шагает тонкий, стройный столяр Каллистрат, босый, в переднике, выпачканном охрой и клеем, с тёмным ременным венчиком на светлых, курчавых волосах; под его ястребиным носом светятся золотистые усики. Накручивая на палец острую медную бородку, он, глядя в сторону Миронова, звонко говорит:
— Скука.
— Не тронь, пускай скучает, — раздаётся грубый, ревущий голос Артамона. Они идут медленно, лениво загребая ногами пыль, пыль встаёт сзади их красноватым облаком. Вся улица восхищена нечеловеческой силой возчика и боится его, как боится странного озорства столяра.
Миронов крепко закрыл глаза; ему иногда думалось, что если глаза человека закрыты, — он становится невидим для людей.
Катились дни, быстро перепрыгивая через тёмные ямы ночей; ночи были жаркие и бессонные, а когда Миронов засыпал ненадолго — снилось странное: по широкой дороге, освещённой множеством костров, идёт неисчислимая толпа медных кофейников однообразной формы; все они на длинных ножках, и есть в них что-то общее с пауками; маленький, горбатый уродец мостит улицу, забивая в землю гвозди так плотно один к другому, что земля кажется покрытой железной чешуёй; по реке плывёт огромная рыба, заглатывая отражение луны, а луна в небе, очень тёмном, подпрыгивает, раскачивается, как маятник часов; снилось и ещё много тревожного своей бессмысленностью.
Миронов жил, не слыша тяжёлых шагов матери, её хриплых и грубых окриков, из комнат выветрился тошный запах водки, мочёных яблоков и маринованного лука; сухонькая старушка, кухарка Павловна, двигалась бесшумно, точно кошка, была молчалива и только вздыхала, присвистывая. Но всё-таки и в тишине этой жить было неловко, казалось, что все вещи, фотографии, иконы безмолвно, но строго спрашивают:
«Ну — что ж ты будешь делать?»
Миронов заметил, что так же требовательно смотрят на него и люди улицы, все они чего-то ждут, липкие взгляды их угнетали его.
В воскресенье, на закате солнца, он удил окуней, сидя на борту баржи, полузатопленной ледоходом, вслушиваясь в отдалённое пение медных труб военного оркестра; музыка и медленное движение голубоватой воды вызвали в нём желанное состояние бездумья, тёплые волны звуков ласково поднимали над землей. Если внимательно прислушаться, — течение реки тоже даёт мягкий, басовый звук, все другие звуки смываются им, но не вполне, они видны слуху, как сквозь мутное стекло. Миронов не заметил, как подъехала лодка.