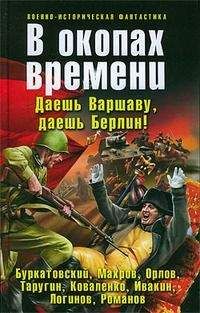Иван Бунин - Том 5. Рассказы 1917-1930
Однако вот и подъезд. Вхожу и без отдыха поднимаюсь по узкой лестнице, устланной затоптанным ковриком. Ух, черт, как высоко и как вообще все это нелепо! Но все равно — уже позвонил. Поспешные шаги за дверью — и дверь открывается, и не горничной, а самой хозяйкой.
Опять радостная и, как всегда, почему-то удивленная улыбка, миг обоюдного смущения — и торопливые, видимо, заранее приготовленные фразы:
— Ах, как мило, что сдержали обещание, забрели на огонек! А я совсем в одиночестве, даже прислугу отпустила, у них ведь, знаете, настоящее помешательство, этот кинематограф… Ну-с, разоблачайтесь и идем чай пить…
Дался ей этот «огонек»! А в придачу «разоблачайтесь» и бестактный поцелуй в висок, когда я поцеловал ее руку, и заявление об отсутствии прислуги. Стыдно уже нестерпимо, однако вхожу в гостиную бодро, как ни в чем не бывало, развязно протирая очки платком. И, протирая, думаю: да, и волосы убраны очень хорошо, видимо, у парикмахера, — значит, я был прав, ждала, готовилась, — и потом это болотно-зеленое бархатное платье, приоткрывающее полные груди, и жемчуг между ними, и чулки из серого шелка, и атласные туфельки…
— Присаживайтесь, милый Петр Петрович, я сию минуту…
И быстро уходит. — Очень возбуждена и, надо правду сказать, очень не плоха. Какая-то особая красота беременности, чудесный расцвет всего тела. Губы уже слегка воспалены, припухшие, но зато великолепно темны и блестящи глаза.
Со вздохом падаю всей своей тушей на диван. Обстановка, конечно, обычная: раскрытое черное пианино, над ним портрет грозного широкоскулого Бетховена, возле большая лампа на высокой подставке под огромным розовым абажуром, перед диваном столик, спиртовка для чайника, пирожные, фрукты, золотые ножички; а на креслах в изломанных и беспомощных позах лежит куклы: баба в желто-красном сарафане, добрый молодец в жаровой рубашке, в плисовой безрукавке и в круглой шляпке с павлиньими перьями, маркиза в белом парике из ваты, арлекин, Коломбина…
— Ну-с, вот и я.
Ставит чайник на спиртовку, зажигает ее, собирает с кресел игрушки и с улыбкой валит их мне на колени:
— Мои новые шедевры. Любуйтесь и критикуйте.
Любуюсь: для видимости интереса, внимания и беспристрастности выдумываю маленькие придирки, пересыпая их лестью. Она наливает чай, — «ведь вам покрепче, не правда ли?» — и с улыбкой подает мне чашку, отставив мизинец. И начинается беседа, если только это можно назвать беседой, так как говорит, по обыкновению, только она. О чем? О том же, о чем и всегда. Сперва об игрушках, которых я терпеть не могу, но которые я продолжаю рассматривать и среди разговора, так как это «ее страсть, то единственное, на чем она отводит душу, созданную, и сущности, только для искусства», затем о муже, которого я и до сих пор ни разу не видал и о котором она говорит с фальшивой веселостью, — «спит до десяти, едет на службу, обедает, снова спит и снова уезжает!» — и, наконец, о своем первом, умершем ребенке. Говорит она только о себе. Обо мне, хотя бы из приличия, никогда ни единого словечка, — до сих пор не знает и не проявляет ни малейшего намерения узнать, кто я, что я, где служу, женат или холост…
Возбуждена она нынче особенно. И возбуждена, и как будто очень весела. Говорит без умолку, с необыкновенной выразительностью и с такой требовательностью внимания, что я вскоре начинаю шалеть, цепенеть и только бессмысленно и растерянно улыбаюсь. Внезапно она вскакивает, — «ах, главное-то я и забыла!» — на мгновение скрывается в соседней комнате и возвращается с торжествующей улыбкой:
— Voilа![27] И все собственноручно! Правда, хорошо?
В руках у нее что-то странное и страшное: длинный балахон из суровой крестьянской холстины с нашивками и вышивками на плечах, на рукавах, на груди и на подоле темно-коричневыми и кубовыми шелками. Она всячески показывает мне его, прикидывает к себе, к своим полным грудям и округляющемуся животу, и вопросительно и радостно смотрит на меня. Я встаю и опять с притворным вниманием осматриваю, восхищаюсь, а меж тем мне уж просто невмоготу: что-то мрачное, древнее и как будто гробовое есть в этом балахоне, что-то жуткое и очень неприятное вызывает он во мне в связи с ее беременностью и тревожной веселостью. Вероятно, умрет родами…
Бросив сарафан на пианино, садится рядом со мною и, не спуская с меня расширенных глаз, начинает говорить о своих чувствах к своему будущему ребенку. Они необыкновенны, невыразимы, эти чувства. Она «с ужасом и восторгом чует в себе новое бытие и уже полна такой любовью, перед которой всякая любовь, и особенно к мужчине, — кощунство, пошлость». Если бог отнимет у нее эту любовь, она покончит с собой, не задумываясь ни на минуту, — это она уже твердо решила… Или же уйдет в монастырь… Мысль о монастыре — ее давняя, заветная мысль. О, если бы не замужество, не дети! Она дня не стала бы медлить! Уже хотя бы по одному тому, что для чего, для кого медлить, для чего и для кого жертвовать собой?
— Скажите, родной, для кого? — горячо спрашивает она, уставясь на меня. — Уж не для него ли, который вряд ли и подозревает, что у меня есть своя личная жизнь, свои личные радости и горести, которыми мне во всем мире не с кем поделиться?
Не спуская с меня глаз, она пытается смеяться, — ведь, право же, ее муж даже не человек как будто, а нечто дикое в своей приверженности спать при малейшей возможности! Она то откидывается к спинке кресла, то подается вперед, кладя руку на мою, и я слышу все ее запахи — дыхания, волос, тела, платья. Щеки ее теперь пылают, глаза прямо великолепны, движенья резки, и на груди, на пальцах, в ушах сверкают драгоценные камешки. А я все смотрю на ее круглящийся под бархатом живот, на то, как она перекидывает нога на ногу, высоко показывая свой серый не туго натянутый чулок… И вдруг, поняв, что настала наконец именно та минута, тайная надежда на которую и вела меня к ней и не оставляла весь вечер, беру ее руку и, бормоча: «Полно, дорогая, успокойтесь!» — тяну ее к себе. А она вдруг закусывает нижнюю губу, быстро подносит к губам платок, быстро пересаживается ко мне на диван и со слезами падает головой на мою грудь…
Возвращаюсь я во втором часу ночи. На улицах ни души, ветер переменился, усилился и пахнет морем, в лицо мне иногда попадают капли дождя. Облака уже не белеют вверху, густая чернота висит над Москвой. И я быстро иду вперед.
— Бежать, бежать, завтра же! — неотступно стоит у меня в голове. — В Киев, в Варшаву, в Крым, — куда глаза глядят!
Приморские Альпы. 1925
Дело корнета Елагина
Ужасное дело это — дело странное, загадочное, неразрешимое. С одной стороны, оно очень просто, а с другой — очень сложно, похоже на бульварный роман, — так все и называли его в нашем городе, — и в то же время могло бы послужить к созданию глубокого художественного произведения… Вообще справедливо сказал на суде защитник.
— В этом деле, — сказал он в начале своей речи, — нет как будто места для спора между мной и представителем обвинения: ведь подсудимый сам признал себя виновным, ведь его преступление и его личность, равно как и личность его жертвы, волю которой он будто бы изнасиловал, кажутся чуть ли не всем, в этой зале присутствующим, недостойными особого мудрствования по их якобы достаточной пустоте и обыденности. Но все это совсем не так, все это только одна видимость: спорить есть о чем, поводов для спора и размышлений очень много…
И далее:
— Допустим, что моя цель — добиться только снисхождения подсудимому. Я бы мог тогда сказать немногое. Законодатель не указал, чем именно должны судьи руководствоваться в случаях, подобных нашему, он оставил большой простор их разумению, совести и зоркости, которым и надлежит в конце концов подобрать ту или иную рамку закона, наказующего деяние. И вот я и постарался бы воздействовать на это разумение, на совесть, постарался бы выставить на первое место все лучшее, что есть в подсудимом, и все, что смягчает его вину, будил бы в судьях чувства добрые и делал бы это тем настойчивее, что ведь он отрицает лишь одно в своем поступке: сознательную злую волю. Однако даже и в этом случае мог ли бы я избежать спора с обвинителем, определившим преступника не более не менее, как «уголовным волком»? Во всяком деле все можно воспринять по-разному, все можно осветить так или иначе, представить по-своему, на тот или иной лад. А что же мы видим в нашем деле? То, что нет, кажется, ни одной черты, ни одной подробности в нем, на которую бы мы с обвинителем смотрели одинаково, которую мы могли бы передать, осветить в согласии: «Все так, да не так!» — должен каждую минуту говорить я ему. Но, что всего важнее, так это то, что «все не так» в самой сути дела…
Ужасно и началось оно, это дело.
Было 19 июня прошлого года. Было раннее утро, был шестой час, но в столовой ротмистра лейб-гвардии гусарского полка Лихарева было уже светло, душно, сухо и жарко от летнего городского солнца. Было, однако, еще тихо, тем более, что квартира ротмистра находилась в одном из корпусов гусарских казарм, расположенных за городом. И, пользуясь этой тишиной, а также и своей молодостью, ротмистр крепко спал. На столе стояли ликеры, чашки с недопитым кофеем. В соседней комнате, в гостиной, спал другой офицер, штаб-ротмистр граф Кошиц, а еще дальше, в кабинете, корнет Севский. Утро было, словом, вполне обычное, картина простая, но, как всегда это бывает, когда среди обычного случается что-нибудь необычное, тем ужаснее, удивительнее и как будто неправдоподобнее было то, что внезапно случилось в квартире ротмистра Лихарева ранним утром 19 июня. Неожиданно, среди полной тишины этого утра, в прихожей звякнул звонок, потом послышалось, как осторожно и легко, босиком, пробежал отворять денщик, а затем раздался намеренно громкий голос: