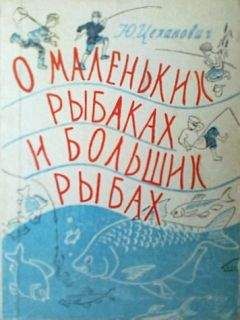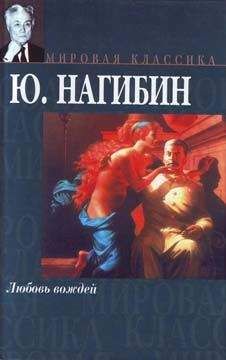Василий Брусянин - Дом на костях
— Вот жив был Женя, и в день смерти мы с ним поспорили… и нет Жени…
Мне показалось, что он заплакал, потому что отвернул лицо, отошёл к обрыву берега и долго смотрел в красную глину.
Когда труп брата, завёрнутый в простыни, был уложен на телегу, и сивая лошадка вывозила громоздкий и тяжёлый экипаж в гору, мы с отцом помогали лошади и упирались руками в задок телеги.
Он шёл со мной рядом, тяжело дышал и говорил:
— Вот ты благоразумнее Жени… Как же можно спасать людей на нашей душегубке?.. Вот и он сгубил свою душу…
Поздно ночью, когда труп брата, обмытый и обряженный в гимназический мундирчик, лежал в зале на столе, я вышел на террасу.
Там в темноте сидел мой дед, слепой старик, и красно-оранжевой точкой светился в его руке кончик раскуренной папиросы.
— Это ты, Лёня? — окрикнул он меня.
Слепой дед до изумления угадывал по шагам, кто вошёл в комнату.
— Да… я… — ответил я.
— Расскажи мне, как всё это несчастье случилось?
И я рассказал деду всё, что видел. И он долго молчал, попыхивая папиросой, и мучительным показалось мне это молчание. Потом дед обернул ко мне своё «невишное» лицо и негромко сказал:
— Какой же ты, брат, пакостник!.. А?.. За шкуру свою испугался!.. А?.. Женя как герой бросился спасать и не рассуждал и забыл о своём существовании… А ты… ты за себя испугался!.. Ведь, если бы вы вместе поплыли, быть может, и Женя остался бы жив… Вы вместе вдвоём побороли бы волны и спасли бы и тех, и сами уцелели… А теперь что же?.. За что погибла эта хорошая молодая жизнь?.. А?.. Эх, ты — трус!.. Уйди отсюда!.. Уйди!..
Я не двигался, и мне хотелось подбежать к деду, броситься к его ногам и выплакать у него прощение за попранную мною справедливость…
— Уйди же от меня, я говорю тебе! — резко выкрикнул дед и палкой ударил в пол. — Уйди от меня, трус несчастный!.. Уйди!..
Я уходил с террасы и слышал слова деда:
— Трус!.. Пакостник!.. Пакостник!..
И с этого мгновения, я знаю это, я стал для всей своей жизни трусом и пакостником… Роковую печать наложил на себя сам и вот живу с этой печатью до сегодня…
В тоске и одиночестве всю ночь я пробродил по берегу, и мне хотелось умереть. Мне хотелось броситься в волны Камы, чтобы не чувствовать стыда и своего позора…
Но я не умер, не покончил самоубийством… Разве способны на это пакостники жизни!?.
Когда я вспоминаю теперь жизнь моих близких, преждевременно умерших, я прихожу к выводу, что все те из них, которые были хорошими, нужными жизни, те умерли, а мы, не нужные люди, живы… Для чего эта странная несправедливость?.. И правду народ говорит, что Богу нужны лучшие, а вся человеческая пакость долго остаётся жить и коптить небо…
Ха-ха-ха!..
Это я смеюсь не над самим собой, а над всеми нашими, оставшимися коптить небо…
Если проследить всю жизнь моего деда, позволительно спросить: «А для чего жил ты, мой судья? Что вышло из тебя? Для чего ты служил науке, а потом убежал от неё?»
А бабушка моя?.. Для чего она дожила до глубокой старости? Народила детей, вырастила их, а от них от пятерых остался только один мой отец.
Дедушка ослеп, и в этом, как оказалось, его, так сказать, провиденциальное назначение. Бабушка моя целыми днями стоит у образов, молится, ездит по святым местам, кормит голодных… И в этом её, так сказать, провиденциальное назначение. Но ведь в этом во всём что-то пассивное жизни. Поддерживать тех, кто умирает, разве в этом цель и задачи жизни?..
Ха-ха-ха!..
Это я и над тобой смеюсь, и над матерью моей, и над отцом… В чём смысл их жизни? Выродили они двух сыновей, и один из них умер Дон Кихотом, а другой — я - живу никому не нужным пакостником, служу в городской управе за тридцать пять рублей в месяц. Живу и не знаю, для чего я жил?.. Разве кто-нибудь другой вместо меня не мог бы исполнять мои обязанности писца?..
— Ха-ха-ха!..
А ты, отец, скажи: для чего ты жил?.. Лечил других и не верил в медицину. Любил жену и в гроб её загнал. Любил меня и оставил меня в жизни никчёмным человеком. Ну, скажи же, что ты сделал?..
Я расскажу вам и о дедушке, о бабушке, об отце и матери моей, и вы увидите, что я прав: никому они не нужные люди были, и мир ничего не потерял, когда они умерли.
И я ничего не сделал, недаром мне хотят отказать от места и устроить в богадельню. И буду я жить и доживать последние свои, но никому не нужные годы в богадельне имени моего прадеда, купца Власа Артамоныча Дулина… В этом есть что-то символическое! Наш прадед построил богадельню, и в ней будет обитать его последний потомок, рождённый в доме на костях. Я последний в роду Дулиных и в роду Дроздовских. Жил холостяком, умру бездетным… Даже незаконных детей не оставлю после себя, а ведь в них была кровь моего рода в тайном состоянии… И этого я не оставлю!..
V
После покойной бабушки остался саван… Как это странно, бабушка умерла, а саван её остался…
Я помню, ещё давно, когда я был в первом классе гимназии, она говорила, что у неё в сундуке хранится саван.
— Помните все: умру — в нём непременно положите, — говорила она, поимённо перечисляя дедушку, отца и мать, тётку и всех нас, внуков. — А не исполните моего предсмертного завещания, Бог вас всех накажет.
И мы не исполнили её завещания, и Бог нас наказал. И вот и теперь Бог наказывает всех нас, живущих в старом доме на костях.
Над нашим старым домом висит возмездие Бога, и мы все страждем, и все, кто поселится в нашем доме, и те страдают. Могила человеческого счастья — наш старый дом!
Перед кем мы виноваты?.. Как имя тому существу, которое простёрло над нашим старым домом свою тяжёлую, карающую руку?..
Разве мы не исполнили бы завета старой бабушки Маремианы, если бы она умерла в нашем доме? Случилось так, что она умерла на чужбине. Поехала на богомолье в Киев, заболела холерой и умерла. Весть о её смерти мы получили спустя неделю после кончины. Разве начальство позволило бы разрыть могилу бабушки, чтобы одеть её в саван и снова похоронить?
— Разумеется, не позволят, что же об этом и толковать, — говорил дедушка и плакал.
И падали из его «невишных» глаз крупные слёзы, прозрачные, хрустальные слёзы.
— А как же быть: бабушка говорила, если мы не исполним её завещания, Бог нас накажет?..
Это спрашивал я, студент первого курса. Может быть, мне следовало бы стыдиться этих слов? Но мне казалось, что слова покойной бабушки — непоборимый закон, и как бы по-своему я ни верил в Бога, всё же я должен бояться и того Бога, в которого верила бабушка.
— И тебе не стыдно говорить так? Ведь ты — студент!.. Какой же ты студент после этого?.. — посмеялся надо мною дедушка.
Дедушка часто упрекал меня и говорил, что я попал в студенты по недоразумению.
Я смутился. В самом деле, какой же я студент, если верую в бабушкина Бога? В того именно Бога, которому она поехала поклониться.
Бабушка уехала поклониться своему Богу. В тот день у нас в городе умерло от холеры десять человек. А перед этим в течение нескольких дней мы только и говорили о холере.
И бабушка сказала:
— Грешны стали люди, Бог и послал мор… Всегда так бывает, как люди забудут о Боге, так он и пошлёт им мор, или глад, или нашествие иноплеменников…
— Племянников… При чём тут племянники? — спросил дед, немного тугой на ухо.
— Иноплеменников, говорю я… И-но-пле-мен-ни-ков, а не племянников! — рассердившись, выкрикнула бабушка.
— Ха-ха-ха! — рассмеялся дедушка. — А мне послышалось — племянников…
Бабушка сидела насупившись, а через минуту сказала:
— Ты во всём себе усмешку найдёшь!.. Постыдился бы на старости лет…
И ещё через минуту добавила:
— Поеду в Киев молить Бога за всех вас… Выпрошу у него милости и вернусь.
И она сказала это таким тоном и с такой верой в силу своих слов, что и мы все поверили, что вот попросит бабушка Бога, чтобы он смилостивился, и он смилостивится…
И она поехала в Киев замаливать Бога, но умерла от холеры и не вернулась. Бедная бабушка! Как жестоко расправился с нею её Бог! Она ехала просить его за других, а он и её самое не пощадил.
Недаром при жизни она часто говорила:
— Неудачливая я какая-то… Если это Бог испытует меня… ну… Его святая воля… А если это мои человеческие грехи заводят меня на край бездны, что же мне тогда делать, окаянной?..
— Голубчик мой, все неудачи от несовершенства общественной жизни, — наставительно и безапелляционно заявлял дедушка, всегда вольнодумничавший.
— А несовершенства отчего?
— Ну, этого, друг мой, тебе не понять, — заявлял дед.
А потом долго говорил о несовершенствах общественной жизни и пугал бабушку уже новым страхом. Слушает она, бывало, дедушкину вольнодумную проповедь, а сама осматривается и всё шепчет:
— Да потише ты… неравно жандармы подслушают…
И потом ещё громче добавит: