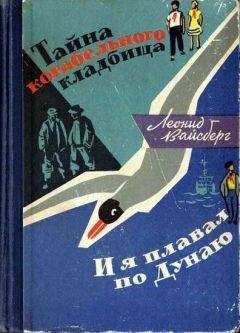Любовь Кабо - Правденка (Сборник рассказов)
8.
БЕЛЁВ А я ведь не так свое повествование предполагала начать. И не такой эпиграф собиралась поставить. "Незабвенной памяти, - так хотела я написать, незабвенной памяти дорогого Константина Петровича, Софьи Власьевны и многочисленных их родственников." К тому, что я уже рассказала, и к тому, о чем собираюсь еще рассказать, все это имело бы отношение самое непосредственное. Но кое-кто из читателей, возможно, не поймет, что это за "Константин Петрович" или "Софья Власьевна". А вы подумайте, к инициалам приглядитесь! Мы в свое время в дружеской переписке так иногда и писали спроста: "Софья Власьевна мне надоела" или "Константин Петрович меня допек"... Иногда какой-то "Георгий Борисович" прорезывался, - простые мы были люди! Словно многоопытный "Георгий Борисович", если бы захотел, не мог догадаться, что означают эти кое-как зашифрованные аббревиатуры!.. Вот так однажды к нашему товарищу, секретарю школьной партийной организации, Михаилу Полякову, пришел человек "от Георгия Борисовича", то есть из системы Госбезопасности ("ГБ"!). А был наш бедный Мишенька к каждой бочке затычка, и к этому уже потихоньку привык: куда бы он не приходил работать, его тотчас кем-нибудь назначали, - председателем комиссии, или агитатором, или, как здесь, в нашей школе, партийным секретарем. Он к единственному не был готов: к тому, что доверительно и спокойно, без особых психологических изысков предложил ему его собеседник. Потому что как ты это ни называй, - то, что он предложил, - какие слова ни придумывай, - помогать, информировать, сообщать, куда положено, - какая, мол, обстановка в школе, какие в связи с этой обстановкой у людей настроения, - суть одна. Неприглядная суть. Михаил, ничем не выдавая своего смятения, торопливо соображал. Он понимал, что долго думать ему не дадут, - тут ведь вся ставка на то, чтоб человек не думал долго. Поэтому особенно тщательно держал в лице такое выражение: задумался, а как же иначе, - все-таки деловое предложение, деловой разговор. Между тем, в школе было неблагополучно. Только что, под знаком борьбы с космополитизмом, сняли с работы Зиновия, сняли с особенным злорадством и треском, и когда на днях Чич, в присутствии Полякова, - когда он попробовал было предъявить претензии райкому, что райком, дескать плохо помогает школе, ему вполне авторитетно напомнили, что вот с Гуревичем помогли. Значит, так это все звучало на языке районных организаций: "С Гуревичем - помогли". Михаил не мог тогда не подумать, ничем, впрочем, мыслей своих, как и сейчас, не обнаруживая: змеюшник какой-то!.. Их послушать: увольнением Зямки предотвращена бог весть какая опасность! Один напоминает директору, что "с Гуревичем - помогли", другой тут же заверяет директора, что райком все понимает, все учитывает, - обязуется помогать и впредь... А вся "помощь" состояла в том, что хорошего специалиста уволили, взяли на его место плохого. Новый историк, взятый вместо Зиновия, Никодим Федотович, профессиональную несостоятельность свою восполняет, как может. На всех перекрестках твердит одно: "Я это еврейство в школе искореню! Развели синагогу...". Очень хочет, чтоб его заметили и оценили. Оценят. Этого сейчас не одернешь, замолчать не заставишь: конъюнктура не та. Михаил уже знал, что согласится на все, другого выхода нет. Чем черт не шутит, а вдруг получится?.. Вдруг удастся то, что не сразу приходит в голову и поначалу кажется совершенно невозможным: замкнуть, как говориться, цепь на себе, как-то перемучиться, перетерпеть, как-то пробалансировать, - и сохранить людей, уберечь их от всякой беды, - среди безнаказанных этих криков "искореню", среди истерических газетных заголовков, в каждого из его товарищей вонзающих указующий перст. Отказаться, в конце концов, он успеет всегда, - так он тогда рассчитывал. Откажется, - если станет уж очень плохо. Почему-то вспоминалась мама. Сидела за чайным столом, у самовара, раскладывала по блюдечкам варенье, говорила кому-то, - Михаил не мог вспомнить, кому: - Мишенька у нас мальчуганчик честный... Именно так называла она его в детстве: мальчуганчик. Очень было жалка честного этого мальчуганчика. И, между прочим, страшно за него. Страшно это тоже было. Страшно отказаться, страшно - не отказываться. Спросил, чтобы как-то оттянуть время, и сам почувствовал, как дрогнул голос: - Почему, собственно, я? Лицо собеседника выразило только то, что дается немалым опытом подобных разговоров: участливое терпение. Он и не собирался скрывать: Михаил их устраивал особенно, - пользуется любовью, доверием товарищей, со всеми хорош, у всех бывает. - На вас никто не подумает. Вот как хорошо: никто на него не подумает! Честный мальчуганчик Мишенька!.. Являться он должен был, - так ему объяснили, - в старый особняк за больницей имени Склифосовского, всегда к одному и тому же человеку, всегда в один и тот же час - с двенадцать ночи. Особняк и особняк, - как множество старых особняков, - никакой вывески, никаких особых примет. Внутри - длинный коленчатый коридор, лестница на мезонин с уютным домашним половичком, тусклое освещение. В коридоре стулья против каждой двери, как в райсобесе. Все так невинно, мирно. Сидишь в полутьме и подремываешь, ожидая вызова. Вначале-то он, конечно, не очень подремывал. Вначале он нервничал, лихорадочно обдумывая, что скажет на этот раз, - чтоб было это убедительно и исчерпывающе и не вызывало дополнительных расспросов. Но довольно быстро он убедился в том, что никто ничего особенного от него и не ждет. Всем только того и нужно, чтоб ничего не предпринимать, ни на что не реагировать, - очень хорошо! - пусть колесо тем временем вертится. Именно это и успокаивало: равнодушное, будничное верчение колеса. Оно расслабляло, усыпляло бдительность. Да и работал тогда Михаил две с половиной смены, давал уроков по двенадцать в день, так что невольно начнешь в тишине и в полутьме подремывать. Всегда в одно и то же время мимо него проходил один и тот же человек, шел по коридору за угол, в другой кабинет. Михаил отводил деликатно взгляд, - да и тот, кажется, на него не смотрел, а если бы и смотрел, не разглядел бы в тусклом освещении. Но по контурам фигуры, появлявшейся в конце коридора, Михаил определял безошибочно: один и тот же. И в том, как один молча отводил глаза, а другой, не поднимая глаз, бесшумно проходил мимо, были какие-то неписаные правила все той же безрадостной и странной игры, в которую они оба играли. Потом Михаила вызывали. Чиновник, вызывавший его, всегда один и тот же, нажимал утопленную в столе кнопку, из боковой двери являлся один и тот же человек невзрачной наружности, так сказать, свидетель. Смотрел немигающим взглядом в лицо Михаилу, пока тот, взбодрившись, нес свою околесицу, - про здоровый коллектив, про Никодима Федотовича, то ли недооценивающего линию нашей партии, то ли нетактично обнажающего ее и сеющего, таким образом, в здоровом коллективе сомнения нездоровые. Ему, покивав на слова его головой, предлагали все это тут же записать. Он записывал. Потом подмахивал всю эту писанину подписью "Белёв". Так ему в самый первый раз посоветовали: "Вы своей фамилии не пишите. Вы какого города уроженец?" "Белёва". "Вот так и пишите - Белёв". Вертелось колесо. Иногда Михаил ловил себя на том, что испытывает к ночному своему собеседнику что-то вроде благодарности, - за то, что в тех обстоятельствах, в которые оба они попали, тот ведет себя наилучшим, а может, и единственно возможным образом, - не выказывая ни заинтересованности, ни недовольства. Один, - здесь, в кабинете, - пишет никого и ни к чему не обязывающую ерунду, а другой, заранее допуская, что все это - ни к чему не обязывающая ерунда, складывает ее в стол с глубокомысленным видом. И если кто-то здесь сейчас в дураках, то это тот, третий. А, может, и он из той же команды, только играет получше, истовее других, - и вертится, вертится на холостом ходу колесо, шелестят невидимые ремни, - государство бдит, государство охраняет себя от скрытых врагов... Но иногда все это давало сбой и сразу отрезвляло. И сразу - ни о каком братском соучастии, ни о какой благодарности речи быть не могло, - и Михаила, с этим инстинктивным жизнелюбием его, с этой человечной заполночной дремотой, с силой откидывало на незримые баррикады. Иногда чиновник за столом морщился: "Что значит "не знаю?". А вы пойдите, пообщайтесь, послушайте..." Или "Что значит "лояльный человек"? А вы разговорчик такой, знаете, заведите...". Вот когда было трудно! Обжигало, - словно в тот далекий, самый первый раз: за кого его, собственно, принимают? Но страшно было, гораздо страшнее, чем тогда, в первый раз, - он же не знал, что будет так страшно!.. Ведь он уже повязан был, - так, кажется, это называется на блатном жаргоне, - кто ж его, повязанного, так вот просто теперь отпустит! И он делал то, что ему было велено: шел на очередную учительскую вечеринку. И так, и эдак, между прочим, шел бы. Играл на гитаре, пел свое любимое "Марь Иванна, Марь Иванна, вы, как ангел, хороши", - и так, и эдак бы пел. А потом в особняке за Склифосовским записывал: "Был тогда-то и там-то. Никаких предосудительных разговоров не было. Подтверждаю: очень здоровый советский коллектив". Или подходил к Науму Борисовичу, за которым ему рекомендовали проследить особенно, и умолял его: "Не ходите вы пока к Зиновию. Да понимаю я, что нехорошо, что надо, но вы все-таки послушайте меня, не ходите...". А потом писал: "Вел с Ноткиным разговор о деле врачей. Относится с полным пониманием, стоит целиком на сталинской платформе...". Вот такая собачья была у Михаила жизнь. Кругом гремели громы, дубы валились. А у них, в двести семьдесят шестой, ни одного ареста, - все это служило Михаилу единственным утешением. И если то один, то другой из учительской их компании делал Чичу ручкой и покидал родимые стены, - было это все уже не так, как с Зямой, а тихо-мирно, на законном основании, а то и вовсе по собственному желанию. Ни о какой "помощи" райкома или иных каких-либо организаций во всех этих случаях и речи не было, - Михаил об этом обязательно бы знал. Когда здоровый коллектив двести семьдесят шестой выстраивался у школьного подъезда, чтоб итти на первомайскую демонстрацию, Михаила Михайловича, как особо доверенное лицо, предупреждали, чтоб в колонне не было ни одного незнакомого человека, и все это было бы абсолютно обычно и не вызывало бы решительно никаких эмоций, если бы не говорил все это тот же ночной его собеседник, обходящий колонны, и если б не говорил он с Михаилом так, словно не вчера ночью в последний раз его видел, а когда-то очень давно, едва ли не в прошлую демонстрацию. А в толпе, оживленно шумящей на Малой Лубянке или, поздней, в Театральном проезде, он встречал вот тот ночной, прилипающий взгляд, - человека, которого постоянный собеседник его привлекал, как свидетеля. Свидетель этот, встретив взгляд Михаила, тут же отводил прилипчивые свои глаза, и видно было, что решительно ничем знакомства своего обнаруживать не собирается. Да и, действительно, - было ли оно, то знакомство? Противноватый сон, снившийся Михаилу через ночь, только и всего. И - странная мысль! - сколько же здесь, в этой праздничной толпе, когда гремят оркестры и кому-то всерьез нужна мишура бумажных цветов и негнущихся флажков из твердой бумаги, - сколько же в этой праздничной, беззаботной толпе людей, не желающих встречаться взглядом, озабоченно вершащих здесь свою неприметную, свою унылую службу! И сколько таких вот особнячков по Москве, и какой же кормится всем этим штат, если одна только школа - школа! - не засекреченное какое-нибудь предприятие, не завод одна школа из многих требует таких вот огромных усилий!.. 9. ДЕНЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ А теперь - другая школа, тоже мужская и тоже, считайте, в Центре: из нашей Чич меня благополучно выжил. Он так чистенько проделал это, что я и сообразить ничего не успела. И тем более не успела что-то сообразить, что меня тут же, прямо-таки налету, подхватила Лидия Васильевна Луцкова, школа которой считалась в районе лучшей. Так вот - отчетливо помню едва ли не каждую минуту этого единственного на всю жизнь дня. В троллейбусе, когда я пробивалась сюда, в Банный переулок, царили необычные сосредоточенность и тишина, никто из пассажиров не обменивался и словом. Навстречу троллейбусу шел по Переяславке, осклизаясь на липком тротуаре, высокий военный в папахе, - он, не скрываясь, плакал, не замечая и не отирая слез. Вот и в школе была не бывалая тишина, даже малыши не шныряли под ногами, как обычно, а испуганно притихли за дверьми своих классов; учителя здоровались друг с другом рассеянными кивками, встречались, - как на похоронах, - невидящим взглядом. Поднимаясь по лестнице, я быстро соображала: в десятом сейчас - поэма Александра Твардовского "Василий Теркин". О ней надо говорить весело, с подъемом, с юмором, чтоб почувствовали ребята и этот неброский юмор поэмы, и нежность автора к своему герою, и авторское лукавство. Но ведь нельзя же в такое утро весело, с подъемом. И я торопливо думала, как заменю сейчас поэму Твардовского драматургией отечественной войны, - есть и такая тема. Не люблю я леоновского "Нашествия" - что делать! - зато в подробностях помню - так уж пришлось, - симоновские "Русские люди". Перестраиваться, однако, пришлось не на драматургию, перестраиваться пришлось на выступление с трибуны: всю школу собрали на траурный митинг. Вот так, без подготовки, я, литератор, говорила о литературе: вспоминала знаменитые слова вождя о том, что "любовь сильнее смерти". О чем я говорила? О том, что любовь окажется сильнее смерти, конечно, и на этот раз; в зале плакали, - кажется, я, и правда, говорила неплохо. Ну, бросьте в меня камень, бросьте! Повторяю: большие мы мастера забывать свою вчерашнюю дурость!.. Ведь это была вся предыдущая жизнь наша Сталин. Мы, может, уже давно не его любили, а это наше чувство единения. Мы еще помнили сказанное им в первые дни немыслимых испытаний: "К вам обращаюсь я, друзья мои!.." Наши поэты говорили за нас: "...Не мать, не сына, в этот страшный час тебя мы самымпервым вспоминаем...". Какая фальшь, если вдуматься: "Не мать, не сына..." Но ведь было же это, было и не казалось фальшью: не мать, не сына!.. Мы привыкли вверяться и доверять. И как бы ни томилась иногда душа, как бы ни сжималась она в горестном недоумении перед этой нависающей надо всем и ни с чем не считающейся волей, душа, давно уже не трудностей боящаяся и не испытаний, - на трудности и на испытания мужества как раз хватало, - глубинно боящаяся только выломанности своей из доброго, согласного со всем мира, как бы, повторяю, ни сжималась душа, это вот спасительное ощущение согласия хотя бы в главном вновь выталкивало ее на поверхность. Так что я искренно говорила в то мартовское утро: "Любовь сильнее смерти", - ведь не лучше же я, не умнее, не прозорливее других! Я была из тех, кто привык подтягивать свою душу, равняя ее в незримом строю. Такие, как я, - имя им легион, - ничего не знали, но и то, что знали, или о чем догадывались, еще не умели до конца додумать. Впрочем, все это я уже написала - в другом месте, в другой книге. Ровесники Октября, мои сверстники, - их так долго убеждали в безоглядной любви, что они, даже не очень уже любя, а, может, в глубинах своей души уже не любя вовсе, и в самом деле уверились, что очень по-своему, сдержанно и с достоинством, но любят тоже. Это же массовый гипноз был, все, что связано со Сталиным, - это ощущение неразрывной связанности с ним, - феномен личного, да и общего нашего сознания, о котором не здесь, конечно, говорить, не сейчас, но будут же об этом когда-нибудь написаны книги!.. А тогда, в тот мартовский день, может, сильнее всего говорила в нас даже не любовь, - говорило, повторяю, вот это ощущение связанности, потому что очень силен был элементарный страх - перед пропастью, на краю которой мы вдруг очутились. Потому что - что же с нами будет дальше? Куда мы теперь?.. Ведь "они" осмелеют теперь, - и это думалось спроста! - ведь "они" же двинутся на нас, а мы были сыты войной, она в нас еще кричала!.. Очень трудно вспомнить, а тем более объяснить другим то, что нами в тот день чувствовалось. Ведь и тот военный на Переяславке был не пешка и, наверное, не дурак: шел - и плакал! Митинг кончился, и мы разошлись по классам, твердо зная основное, въевшееся в плоть и кровь советского человека: что бы ни произошло, он обязан, советский человек, стоически стиснув зубы, пахать землю или лить металл, или врубаться в угольные пласты. Или - учить детей. Мы разошлись учить детей, дети - учиться. Для них это был первый в жизни урок: сначала - равнять свои чувства в общей шеренге, мы добросовестно показали им пример в этом, - потом - что бы ни случилось - стиснув зубы, продолжать свое дело... Но нам - мне и десятому "А" - так и не довелось продолжать свое дело. Энергично распахнулась дверь, и в класс вошла руководительница этого класса, она же завуч, - Лия Исаковна Вайнштейн. Лия Исаковна умела многое брать на себя. Распоряжалась она в школе авторитетно и толково, успешно подменяя Лидию Васильевну, занятую, в основном, представительством внешним. Лия Исаковна извинилась передо мной и задумчиво остановилась посреди класса. Класс молча встал перед нею, молча сел, а она все так же стояла, задумчиво разглядывая любимых своих мальчишек и мысленно на что-то решаясь. - Ну, вот что, - сказала она, наконец. - Я вас отпускаю, идите. Вас - и Любовь Рафаиловну. Только скорее... Мы и сами понимали, что если уж итти, то надо - скорее. Какой инстинкт нам, и, главное, Лии Исаковне это все подсказал! Я усомнилась, было, что будет с остальными моими уроками, Лия Исаковна нетерпеливо поморщилась: - Я подменю вас, скорее!.. Господи, как мы неслись, - тридцать мальчишек и я, меняя на ходу трамваи, как загнанных иноходцев, обгоняя идущих в одном направлении с нами людей и перекликаясь, чтоб не растеряться в крутой и неожиданной смене маршрутов. Выскочили на Садовое кольцо, потом на Бульварное, минули котловину Трубной площади, которой предстояло через несколько часов превратиться в гибельную воронку, минули Петровские ворота, свернули на Пушкинскую, пересекли Столешников, - и уперлись в спины запрудивших Пушкинскую людей. Вот теперь - все. Теперь, если бы мы и захотели отсюда выбраться, то вряд ли сумели бы это сделать. Сзади нас быстро росла толпа, утрамбовывалась, становилась все плотнее. Но мы и не собирались выбираться отсюда. Для чего-то нас отпустили все-таки, - школа должна была пройти через Колонный зал и проститься - нами. Мы стояли несколько часов: в Дом Союзов, как ни близко он был, еще не пускали. Напор сзади становился все сильнее, все ощутимее, и мальчишки, стоя полукругом и подменяя друг друга, уперли руки в стену, защищая меня и тех, кто уставал, кого подменяли. Где-то там, за грузовиками, оцепившими тем временем центр, уже разыгрывалась трагедия; мы были внутри кольца, мы даже не догадывались об этом. Часов с четырех, - кажется, так, - толпа пришла в движение, и мы начали потихоньку продвигаться вперед. Мимо глухих витрин, мимо запертых магазинов. Покряхтывая от напряжения, отталкиваясь от стен, отбиваясь от напирающих сзади. Чем ближе к Дому Союзов, тем итти становилось легче. Все больше было военных, много милиции, они сдерживали, месили, упорядочивали толпу, превращая ее мало-помалу в ровный поток. Порядок был - не было торжественности: слишком долго стояли. Слишком больших усилий требовало это ожидание. Торопливо настраивали свои души на сколько-нибудь торжественный лад: Сталин умер, и мы идем с ним прощаться. Ведь уже совсем близко, уже сейчас... Удар в глаза. Иначе сказать не могу: именно так - удар. Говорили потом, что яркие прожектора, установленные при входе в Колонный зал, были специально направлены в толпу, чтоб выбить слезы. Не знаю, прожекторов я не видела. Я - о другом. Идешь прощаться с умершим человеком, отдать ему долг, и вовсе не стремишься что-то такое видеть. "Что увидишь? Только лоб его лишь, да Надежда Константиновна с слезами за..." Так писал Маяковский в двадцать четвертом году. В самом деле, а что там, собственно, видеть?.. Сталин был виден весь, - именно это било в глаза. Весь, до кончиков сапог, - не заваленный, не заслоненный цветами. Впечатление было такое, что гроб, словно портрет во весь рост, прислонен к стене, прямо против входа. Может, просто сильно поднято изголовье? В этом было какое-то неуважение к тому, что Лев Толстой называл "великим таинством смерти", что-то слишком кричащее, откровенно публичное. Не оставляющее места глубинной сосредоточенности, естественной при прощаньи с умершим. С каким умершим, - с эпохой!.. Что-то от язычества, от идолопоклонства, - вот он весь, любуйтесь своим кумиром, рассматривайте его, прощайтесь!.. Это очень страшно было, - свидетельствую. Это - запоминалось. И когда стало известно в Москве, чт( именно было в этот вечер, и ночью, и на утро, когда встанет перед глазами весь этот чудовищный день и вся эта чудовищная ночь, - все невольно смонтируется воедино: приподнятый над толпой, выставленный на обозрение идол, - и жертвы, жертвы у его подножья, у этих противоестественно видных его сапог!.. Словно все это было нарочно подстроено, продумано заранее во всех деталях, - хотя бы эти грузовики, отрезающие центр, грузовики, к которым неумолимо несло неуправляемую, воющую в отчаяньи толпу. Грузовики, которые не были поставлены поперек Бульварного и Садового кольца, разрезая толпу на мирно текущие от окраин потоки, - это было бы только логично, - нет, они стояли вдоль Бульварного кольца, замкнув его, заранее обрекая на увечье и гибель тех, кто окажется, вольно или невольно, в это кольцо втянутым. Дворы-ловушки, заваленные трупами люки, забитые неузнаваемыми, изуродованными телами больничные и городские морги... Какова жизнь, такова, очевидно, и смерть. Феномен дьявольски отрежиссированной жизни, сменившийся дьявольской режиссурой этих вот похорон, этими выставленными напоказ сапогами, забрызганными кровью, этим воем ужаса, расплющенными, истоптанными людьми, спешившими воздать и проститься... Власть, намного превышающая ту, которую имел любой российский монарх, величие, навечно запечатлевшее себя пирамидами московских высотных домов, - и день, превзошедший все, что мы знали под словом "Ходынка"... Но все это станет ясным позднее. Живешь на свете - и копишь впечатления, безотчетно откладывая их на полки памяти. Время само приведет их в порядок и выстроит, как книги на стеллажах. Никакие последующие разоблачения, не сделают того, что сделал, - в позднем, в искушенном уже восприятии, - один этот день: пятое марта. Но все это будет, повторяю, позднее. А пока - пока мы идем темной улицей Грановского, а навстречу нам, от метро, во множестве - молчаливые, одинокие фигуры, идущие вперед, выставив плечо, с той ожесточенной решимостью, с какой устремляются на приступ. Мы невольно уступаем им путь, кое-как уворачиваемся, чтоб не смяли и не сбили, и я идиотически спрашиваю: "Ребята, куда они все?". И ребята отвечают: "Туда же". Отвечают спокойно: мы же еще ничего не знаем! Но я упорствую: "Туда - так?..". И в недобром предчувствии сжимается сердце. И опять - впечатление навсегда, его не избыть, оно не забудется: люди, идущие туда. Не проститься пробиться. Мы спускаемся вниз, в метро, - я и двое ребят, меня провожающих. И в метро все так же насуплены и молчаливы, как было утром, в троллейбусе. И почему-то весь вагон смотрит на нас. Наверное, на нас есть эта печать: мы - были. Мы пробились, нам удалось. Остальные еще равняют свои души в общем строю, а мы - уже отработали свое, уже - готовы. Только неимоверная усталость сдерживает наше беспечальное оживление и горделивую удовлетворенность. Там, наверху, уже идет трагедия, - но ни люди, едущие с работы и невольно поглядывающие на нас, ни мы сами - мы же еще ничего не знаем об этом!.. Мы придем ко мне и что-то поедим, молчаливо и жадно, - весь этот день не было во рту и росинки. И будем отдыхать в моей комнате: я в кресле, ребята на тахте, - отдыхать молчаливо и расслабленно. Мы, наверное, и сами не понимаем сейчас, какое это счастье сбросить сегодняшнее, как негнущийся, сшитый не по мерке служебный мундир, переодеться в домашнее, быть, наконец, самими собой!.. А мои родители так и не выйдут, закроются в своей комнате: не захотят показать чужим мальчикам своих не омраченных сегодняшней утратой лиц. Да и мне не захотят показать их, пожалуй, - чтоб ничем не оскорбить - господи, как стыдно думать сейчас об этом! - моей всенародной, моей всепартийной скорби!.. Вот так оставим мы за спиной одну эпоху, вступим в другую. Но и этой, другой, хватит нам надолго, - пока там мы поумнеем!.. 10. ПРАВДЕНКА В 1948 году написала я первую свою повесть "Друзья из Левкауц". Название села изменила, изменила, конечно, все имена и фамилии, а так - рассказала о нашей работе в Бессарабии сорокового года все, что было. Никакого этого чувства вины, о котором упомянула я совсем в другом месте, и гораздо позже, в "поумневшие" уже времена, у меня тогда и в помине не было; писала я свою первую повесть так, как и полагается писать правоверному "ровеснику Октября", - в самом распрекрасном урапатриотическом духе. Кончила я ее событиями зимы 1940-41 года. Собиралась позднее продолжить повесть, довести ее до начала войны, может быть и войну прихватить. Пока же отдала то, что написано, в Союз писателей, в Комиссию по работе с молодыми авторами, председателю ее Вере Васильевне Смирновой в самые ее белые руки. И вот, спустя несколько недель, сижу я в громадном особняке Правления писателей СССР и прислушиваюсь к тому, как очень интеллигентная женщина ровным и доброжелательным голосом говорит немолодому уже автору, что сказочка его, которую он представил, решительно никуда не годится и что самую мысль о литературном труде ему необходимо навсегда оставить. Автор же, словно ему уши залило, ничего этого не слышит и всерьез озабочен только одним: можно ли ему хотя бы имя героя оставить, очень ему имя героя дорого - "Авоська". И Вера Васильевна, совсем уже неправдоподобно ровным голосом, совсем уже интеллигентно внушает автору, что графоман - он, между прочим, графоман и есть, и не спасет его никакое имя героя. Жутковатый разговор. И я, естественно, готовлю себя к тому, что если мне скажут что-либо подобное, ничего не выклянчивать и за стул держаться покрепче, а еще лучше вот сейчас, загодя подумать о том, куда же мне итти дальше, если я здесь не понравлюсь. Писать-то я буду все равно, такое дело, потому что графоман - он, между прочим, графоман и есть. Но, оказывается, моя повесть Вере Васильевне понравилась, и она этого ни от меня, ни от кого-либо иного скрывать не собиралась. Вот так, с рекомендательным письмом ее, и появилась я, наконец, в редакции "Нового мира". Вот когда все началось! Один из работников отдела прозы, которого все дружески именовали "Юра", прочел мою рукопись и написал эдакую приплясывающую рецензию, где сообщал, что "автор понимает плавать" (это я дословно цитирую), что работать с ним поэтому можно и, между прочим, нужно, потому что при всей актуальности затронутого им материала Большую Правду нашей советской жизни он то и дело подменяет маленькой Местной правденкой. Впрочем, последнего он не утверждал письменно, это, очевидно, не принято было, но с тем большей горячностью доказывал устно, - в присутствии завотделом прозы и редактора Валентины Дмитриевны Раковской, которой доверено было эту Большую Правду нашей советской жизни вместе с автором выявлять и отстаивать. Ну, а в чем она, Большая Правда нашей советской жизни? Это автору тогда же доскональнейше объяснили: прежде всего - в партийном руководстве. У меня этого партийного руководства в повести вовсе не было. Потому что в Левкауцах у нас была робинзонада, и директор, присланный откуда-то из-под Тамбова, был дурак и бабник, а партийного руководства со стороны мы не видели вовсе, партийное руководство Варюха осуществляла. Но если так уж позарез нужна эта Большая Правда - пожалуйста! Мы же не маленькие, мы понимаем, - без партийного руководства и не такие дубы валились, только что, у всех на памяти. Без партийного руководства мы никуда. И приехавших героинь в скромной моей повести сразу же принимал секретарь райкома Колесниченко, предупреждал о трудностях, советовал, как ловчее их одолеть; ну, и потом, раз уж появился в повести, по непреложным законам жанра, не оставлял Левкауцы своим попечением. Вызывает меня для беседы завотделом прозы Дроздов. "Видите, - говорит, как у вас хорошо секретарь райкома вписался! А что ж у вас нет местной интеллигенции, - той ее части, что ждала, дождаться не могла прихода советских? Была такая интеллигенция?". Бог ее знает, может, и была. В Левкауцах у нас были учителя более симпатичные, были менее симпатичные, даже откровенно враждебные были, а вот таких, чтоб жить без нас не могли, - таких вроде не было. Нарушены законы, по которым разворачивается Большая Правда! И вписала я фигуру учителя Морея, это вам не жалкая местная правденка: ждал он, ждал советскую власть, счастлив, что, наконец, дождался... А раз он появился, надо и судьбу ему какую-нибудь выстраивать, - живой человек! Даже женить его, закоренелого холостяка, пришлось, пусть уж зальется счастьем по самое горлышко!.. Шутки шутками, а невзыскательная повесть моя все разбухает и разбухает, в роман превращается, а с романа и спрос другой. Вот, говорят, вы о техникуме пишете, и хорошо пишете, свежо, непосредственно (о, господи, все еще непосредственно и свежо!), а где ж у вас перестройка бессарабского села на социалистический лад? Говорите, техникум ваш стоял на отшибе? А какое дело до этого, простите, широкому читателю, - до того, что он на отшибе стоял? Никакого. У нас другого произведения о Бессарабии нет. В третьей части напишите об этом, ага, в четвертой даже? Нет, уж третья и четвертая части - дело дальнее, нам первые две надо до ума довести. Довожу до ума первые две части, что делать!.. Как бы жила я в ту пору без любимой школы, без дорогих моих ребят!.. Только они и держали. Вернешься из редакции, жизни не рада, выплачешься в подушку, - и снова к столу, снова писать. Шутка сказать, перестройка бессарабского села на социалистический лад, на что она мне?.. Это как мачеха Золушке наказывала: крупу перебери зернышко к зернышку, да полотна, что ли, натки, да, пожалуй, на досуге еще и хоромы новые построй. Но у Золушки на подхвате добрая фея работала, а я все одна и одна: колхоз организовывай, целину поднимай... Современный читатель может и не все понять, современный читатель скажет: из чего же ты, бедолага, так мордуешься? Наплюй на журнал, всего и дел, не к стенке тебя ставят, не жизни грозят... Ну, а в других редакциях, в других издательствах - лучше будет? Доклад Жданова о журналах "Звезда" и "Ленинград" - это не на год, не на два острасточка... На дворе сорок восьмой, не девяностые годы!.. Господи, да мало ли с чем в ту пору мирилась душа! Читатель, который со вниманием книгу читает, и так уж все понял: со многим. Понял он, очевидно, и то, с каким трудом, в каких страданиях, слезала с нас старая шкурка, только-только еще начинала слезать, - то, на чем мы, так называемые "ровесники Октября", были воспитаны: привычка к доброму согласию с миром, потребность ощущать себя в общих шеренгах. Нас, наверное, еще не так трудно было уговорить: Большая Правда, маленькая правденка... Оно только еще нарастало, новое восприятие жизни, - у каждого по-своему нарастало, у каждого - в свой час... В моем-то случае еще и это играло роль: уже проделанная работа. Со мною однажды так было: приехала я с Мосордой в Ленинград, и полезли все мои ребята на Исаакий, на самую вышку. Я им так и сказала тогда: "Лезьте, ребята, я вас внизу подожду". Понятное дело: Исаакий был мне с моими сомнительными ногами решительно не по силам. Но когда голоса их где-то там, наверху, замерли, я подумала - и полезла тоже. Так почему я добралась все-таки? Потому что в какой-то момент спускаться вниз было трудней, чем продолжать подъем... Вот уже и свет вверху маячит, и голоса слышны, и столько усилий сделано, - лезу!.. Ну, остальное-то все - уже детские игрушки. Почему у вас директор - дурак? Не может у нас директор быть дураком. А мы его - в завхозы! Подождите, подождите, а почему у вас завхоз - дурак? Советский же человек! Мы кого угодно в освобожденные республики не засылали. Не засылали они кого угодно! Ну, все они знают! Я там работала, я от тех дураков натерпелась, а они - знают!.. Но не с Исаакия же в одиночку спускаться!.. Будет завхоз тот местный, у местного, как известно, пережитки, какой с него спрос!.. Вот так и прошли два года - в продуктивной творческой работенке, вспомнить страшно! А когда они прошли, мой редактор Валентина Дмитриевна Раковская обратилась в редакцию с письмом: дескать, автор свой роман переделал (роман!), все редакционные замечания учел, но решить вопрос о его публикации можно лишь тогда, когда он напишет, как и предполагал вначале, третью и четвертую части. Как это все называется деликатнее издевательство, подлость?.. Ну, у каждого солиста - своя партия. Я свою чисто веду. Пишу заместителю главного редактора Александру Юрьевичу Кривицкому. "Не может быть, - пишу, - чтоб в результате компетентнейшей редактуры повесть моя стала хуже, чем была раньше...". Спросил бы меня кто-нибудь напрямую, я бы непременно ответила: стала хуже. Повесть, которую я с таким удовольствием когда-то писала, стала вовсе нехороша, начисто утеряв то, что мне в ней было особенно дорого, - такую знакомую мне, под сердцем выношенную маленькую правденку!.. Чем бы кончилось это все, не знаю. Но тут случилось непредвиденное: в пятидесятом году сменилась редколлегия "Нового мира", и вместо Константина Михайловича Симонова к руководству журналом пришел Александр Трифонович Твардовский. Вслед за ним, как это обычно и бывает, пришли новые работники во все отделы. Мне потом говорили, что моя рукопись с тем и передана была новому составу, что вот - такой уж попался неудобный автор: что ему ни прикажут, все делает, никак от него не отвяжешься, а публиковать рукопись рискованно, никак нельзя: острейший вопрос все-таки - советизация новых республик! Новую редакцию это заинтересовало: почему же нельзя, если вопрос - острейший? Новая редакция была полна благих намерений и нерастраченных сил. Прочел рукопись замредактора Сергей Сергеевич Смирнов, сказал: "Товарищи, вещь-то - премиальная!..". Большей похвалы тогда не было и быть не могло: премиальная вещь! Срочно прочел другой заместитель главного, Анатолий Кузьмич Тарасенков, подтвердил: "Никаких сомнений, премиальная! Немедленно в печать...". В общем, опубликовали роман под названием "За Днестром" в номере пятом и шестом пятидесятого года. Приняли автора в Союз писателей, обсуждения, пресса, подготовка двух первых частей к отдельному изданию, работа над третьей и четвертой частями. В "Новом мире" автор - обожаемый человек. Анатолий Кузьмич Тарасенков ходит из кабинета в кабинет и на все лады даже не говорит, а выпевает: "Людмила Кабо! Людмила Кабо!" - новое имя на вкус пробует. "Анатолий Кузьмич, почему "Людмила"? Я - Любовь...". Огорчился Анатолий Кузьмич: ему с "Людмилой" больше нравилось. Подводили начинающего ко всяким маститым: "Наш новый автор, знакомьтесь...". В лицо мне заглядывали от полноты чувств: счастлива ли я, понимаю ли, какая честь, - Маршак, Катаев?.. Я на все это оказалась безнадежно тупа. Правда, Катаев меня изумил, - сидит, собрав вокруг себя почтительную толпу, ведет эдакую импровизированную пресс-конференцию, даже для убедительности руку на сердце кладет: "Пустой я, товарищи, понимаете, совершенно пустой...". А я про себя думаю: "Пустой, - так и молчи, стыдно ведь!..". Катаеву почему-то стыдно не было, ему, видно, уже тогда казалось, что, как шестнадцатилетней девице, ему любая шапка к лицу... А в 1951 году выставила меня редакция "Нового мира" на соискание Сталинской премии. И - как первая ласточка, - ба-бах! - положительная рецензия в газете "Правда". Целый день мне звонили знакомые и незнакомые: рецензия в "Правде" - это вам не хухры-мухры, это, считайте, Сталинская премия у вас в кармане. Ну, я автор скромный, отвечаю, как и полагается, что-то уклончиво-скромное, отойти от телефона не могу, не успеваю, соседи, проходя мимо, посмеиваются: не раскладушку ли тебе у телефона поставить? И тут - трагедия. Врывается с улицы в коридор один из соседей, Стеценко. Так я его условно назову. А я - не знаю, как - фамилию Стеценко дала нечаянно одному из героев романа. Отрицательному. Стеценко за новинками литературы не следил, журналов не читал, так что я до поры до времени жила спокойно. А в рецензии в "Правде" черным по белому было написано: "Такие, как вор Стеценко...". Нарочно не придумаешь! Тем более, что Стеценко всю войну - как бы это помягче выразиться? - таскал в дом трофейное барахло; ему на это дело ни своих, ни шоферовых рук нехватало... Так вот - ворвалась в коммунальный коридор самая что ни на есть олицетворенная маленькая правденка!