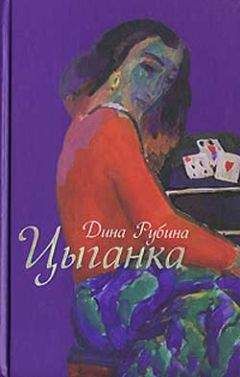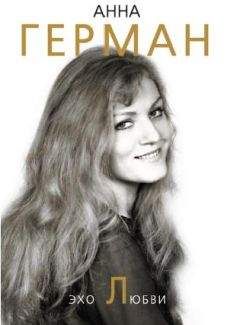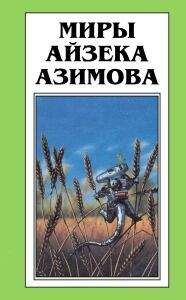Анатолий Курчаткин - Солнце сияло
- Слушаю! - произнес я в нее таким голосом, будто подобных звонков я имел не менее сотни за день и они были для меня обыденным делом.
- Ты чего это так? - отозвалась трубка через паузу голосом матери. - Я, было мгновение, даже подумала, это не ты.
О, японский городовой! Меня внутри словно бы продрало ежовой рукавицей. С чего это вдруг я решил, что, кроме моего земляка с телевидения, звонить мне не может больше никто? Вот, пожалуйста: мать.
- Что-то случилось? - спросил я.
- Почему случилось? - ответно спросила мать. - Просто хотела узнать, как дела.
Дела, как сажа бела, а как легла, так и дала, крутилось у меня на языке. Но я, само собой, так не ответил. Все же это была мать.
- Да мам, да пока ничего определенного, - промямлил я.
Мне было досадно, что я не могу обрадовать ее хотя бы какими-то вестями. Ей бы хотелось гордиться мной, рассказывать обо мне у себя в учительской - какой я выдающийся, успешливый, каких высот достиг. Они с отцом заслуживали того, чтобы получать от меня приятные вести. Что я имел в детстве благодаря им - это как раз свободу. Я не знал никаких денежных и иных бытовых забот, хотя над семьей, как я теперь понимаю, всегда витало дыхание нужды, и, наконец, я был волен заниматься тем, чего просила душа: то фотографией (и у меня тотчас появлялся фотоаппарат со всей сопутствующей техникой), то живописью (и тотчас появлялись и кисти, и краски, и бумага, и этюдник), играть в футбол, имея дома собственный мяч (которого не имели другие ребята), учиться игре на фортепьяно по индивидуальной программе, чтобы не сдавать пошлейших переходных экзаменов из класса в класс. Я утратил эту свободу, выросши и вступив, как то положено говорить, в большую жизнь.
- Нет, ну ты, надеюсь, не лежишь на кровати, не плюешь в потолок, а что-то предпринимаешь? - проговорила мать на другом конце провода, зазвенев голосом.
Я неизбежно ухмыльнулся про себя.
- Ни в коем случае, что ты! - сказал я в трубку.
- А твой друг - Станислав, кажется, да? - что у него?
- И он не плюет, - отозвался я, продолжая внутренне ухмыляться.
- Он как, нашел себе уже что-то? Работает?
- Нет, пока еще тоже нет.
У меня не было для нее никаких утешительных новостей. Абсолютно! Никаких!
Мать в трубке помолчала.
- Так, а что же у вас с деньгами? - спросила она потом. - Того, что ты взял... осталось у тебя еще?
- Осталось, осталось, - бодро отчитался я.
От того, чтобы попросить денег, я удержался.
- Что?! - воззрился на меня Стас с кровати, когда я вошел в комнату.
Я молча прошел к своей кровати, повалился на спину и, как он, воздел ногу на колено другой.
- Ничто! - ответил я ему уже из этого положения, глядя в потолок и прикидывая, удастся ли до него доплюнуть. Доплюнуть не удалось бы наверняка: с высокими потолками строили дома в девятнадцатом веке.
- Нет, ну что "ничто"? Кто звонил? - переспросил Стас.
- Не тот, кто нужен, - сказал я. - Готовься грабить и убивать.
Стас не успел выдать мне ответа - в коридоре раздался новый телефонный звонок. Я не слишком плотно прикрыл дверь, и звук звонка, съеденный расстоянием, достиг и нашего дальнего угла в самом конце коридорного туннеля. Меня было вновь подбросило, как на батуте, выстрелило с кровати в сторону двери, но на полпути к ней я натянул вожжи.
Судя по взвизгу ножек табурета о пол, трубку там снова сняла Лека. "Кого? - услышал я затем ее звонкий голос. - Александра?!"
"Александра" - это точно было меня.
Я снова рванул к двери, вылетел в коридор и помчал по нему.
- Вы, дядь Сань, сегодня нарасхват, - сказала Лека, протягивая мне с табуретки трубку.
Я принял трубку, помог свободной рукой Леке оказаться на полу и, забыв придать голосу респектабельное достоинство, крикнул:
- Да-да?!
- Привет, - простецки отозвалась трубка, и это была не мать, и вообще не женщина, а значит, это был он, мой земляк. - Это вы на фоно брякаете?
Брякаю на фоно! Он меня запомнил. В доме, где я встречал тот Новый год, было пианино, в какой-то момент оно привлекло чье-то внимание, все стали наигрывать на нем, кто что мог, меня тоже разобрало, и я, бросив руку на клавиатуру, выдал все, что было у меня тогда в пальцах, а в пальцах у меня тогда был Моцарт.
- Два года не брякал, - сказал я. - Родине долг отдавал.
Мой земляк понимающе хмыкнул:
- Отдали?
- С лихвой. Вот как раз есть чем поделиться. Сюжет для репортажа.
- Да-да, - не давая мне продолжить, подтвердил, что знает, о чем речь, мой земляк. - Но я, откровенно говоря, не совсем понял из того, что мне передали: чего вы хотите? Вы хотите, чтобы я этот сюжет снял?
- Ну-у, я думал... - заблеял я.
- Если вы предлагаете мне, - перебил меня мой телефонный собеседник, то я сейчас сам практически не снимаю. А если хотите вы - давайте попробуем.
- Да я бы вообще... я думал, - снова заблеял я.
Он предлагал мне то, что, я полагал, мне придется выдирать в жестокой борьбе.
- Что вы думали? - спросил меня мой собеседник.
- Нет, я с удовольствием, - быстро проговорил я.
- Тогда давайте подъезжайте, записывайте, как ехать, я закажу пропуск, - произнесла трубка.
Мне не нужно было ничего записывать, я все запомнил так.
Ворвавшись в комнату к Стасу, я схватил его за ноги и стащил с кровати на пол. Мне нужно было сделать что-то такое. Стас ругался и грозил мне, - я, однако, не отпускал его, пока хорошенько не покрутил по полу на спине.
- Ништяк, пацан! - прокричал я, наконец отпуская Стаса. - Грабеж отменяется! Переходим к честной зажиточной жизни!
О, эти дикие джунгли бесконечных останкинских коридоров! Попавши в них раз, выбраться из них уже невозможно. Они затягивают в себя, будто изумрудная болотная хлябь неосторожного путника. Они сжирают тебя с каннибальской безжалостной свирепостью. Схряпывают, словно крокодил свою жертву. Растворяют в себе, как актиния случайно заплывшего в ее невинно разверстый зев рачка.
У моего земляка была легендарная маршальская фамилия Конев. Хотя он просил произносить ее с ударением на втором слоге: Конёв. Бронислав Конёв. Мы, Конёвы, люди гражданские и ни к артиллерии, ни к кавалерии отношения не имеем, любил приговаривать он при случае. Впрочем, в жизни он отличался истинно кавалерийской лихостью. Мой сюжет он зарубил с безоговорочной решительностью - будто полоснул шашкой: "Нет, это теперь не имеет смысла. Это при коммунистах важно было - показать, какой у них бардак кругом. Теперь власть поддерживать нужно".
Я предлагал ему сделать сюжет о части, где служил. Показать, как охраняется штаб ПВО. Я же знал, как он охраняется. Последнее время я смотрел телевизор с одной целью - понять, что там требуется, и мне казалось, за мой сюжет схватятся обеими руками. Поэтому я и позволил себе, подбираясь к Конёву, напустить загадочного туману про военный объект государственного значения, про угрозу государственной безопасности. А он, получается, клюнул на того земляка двухсполовинолетней давности, что "сбрякал" в новогоднюю ночь на фоно. Однако я столько вынашивал свой сюжет, что несмотря на сабельный отказ Конёва попробовал сохранить жизнь своему детищу. Да кроме того, ничего другого предложить я не мог.
- Но вроде, я смотрю телевизор, такого рода все и идет. Почему же об армейском бардаке не сказать?
Конёв засмеялся и одобрительно похлопал меня по плечу:
- Хорошо, хорошо! Без зубов в Стакане нельзя. Травоядные в Стакане, запомни, не выживают. Но и английскую пословицу нужно помнить: "Не можешь укусить - не оскаливайся".
Так в первое же свое посещение Останкино в одном флаконе с его обиходным прозванием я получил и главнейший останкинский урок поведения.
- Нет, а все-таки? По-моему, это было бы интересно, - попытался я настоять хотя бы на каком-то вразумительном ответе.
И получил его:
- Поймешь, когда научишься нюхать воздух. Нюхать воздух - первейшее дело в Стакане. Что ты мне: такого же вроде рода! Такого, да не такого. Армия теперь чья? Новой власти. А что такое армия? По сути, сама власть. А власть чья? Наша, демократическая. Что же мы сами о себе плохо говорить будем?
Этот пассаж про воздух был второй урок поведения, преподанный мне тогда Конёвым. Все остальные его уроки носили уже характер технический.
Помню, я потерялся. Наш разговор происходил в маленькой тесной комнатке с двумя ободранными канцелярскими столами светлого дерева, из широкого окна открывался вид на кипящий зеленью, с промоинами желтого, уходящий к небесному куполу парк, я стоял вполоборота к окну, глянул в него на штормящее под первым осенним ветром зеленое море - и такая тоска утраты пронзила меня! Ведь я уже чувствовал и эту убогую комнатку, и этот вид из окна своими, я уже успел присвоить их, сжиться с ними, неужели мне придется отдать все обратно, так ничем и не овладев?
Конёв, однако, снова похлопал меня по плечу:
- Хочешь выходить в эфир - будешь выходить, это - как два пальца обоссать. Сюжетов вокруг - вагон и маленькая тележка. Буду подбрасывать по первости. Потом сам глаз отточишь.