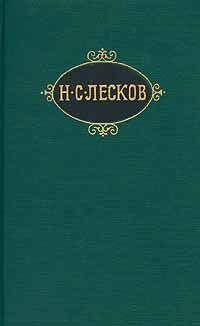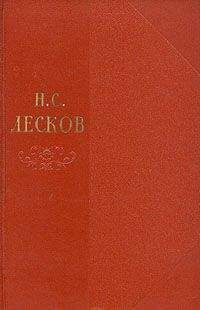Николай Лесков - Загон
Настало здравомыслие, в котором мы ощутили, что нам нужна опять «стена» и внутри ее – загон!
С тех пор, как произошел этот кратко мною очерченный последний оборот, я уже не бывал ни в орловских, ни в пензенских, ни в украинских деревнях, а вертелся по балтийскому побережью. Пожил я здесь в разных местах, начиная от Нарвы до Полангена, и не нашел ничего лучше, как Меррекюль, выдерживающий свою старинную и почетную репутацию. Это именно тот первый пункт за Нарвою, где, по расчету Каткова, русские генеральши захотят сделать для себя «заграничное место». Здесь хорошо жить, потому что в Меррекюле очень красивое приморское положение, есть порядок, чистота, тихий образ жизни, множество разнообразных прогулок и изобилие русских генеральш. Очень любопытно видеть, что такое учреждают здесь теперь эти почтенные дамы, тяготевшие к чужим краям.
VI. Возвышенные порывы
О Меррекюле говорят, будто тут «чопорно»; но это, может быть, так было прежде, когда в русском обществе преобладала какая ни есть родовая знать. Тогда тут живали летом богатые люди из «знати», и они «тонировали». А теперь тут живут генералы и «крупные приказные» да немножко немцев и англичан, и тон Меррекюля стал мешаный и мутный.
Меррекюльские генералы, которые еще не вышли в тираж, находятся большею частью в составе каких-нибудь сильно действующих центральных учреждений, и потому они обыкновенно присутствуют шесть дней в столице, а в Меррекюль приезжают только по субботам. В течение шести будних дней в Меррекюле можно видеть только самых старых генералов, в которых столица уже не ощущает летом надобности, но они не делают лета и в Меррекюле. Украшают и оживляют место одни генеральши и их потомство – дети и внуки, которых они учат утирать носы, делать реверансы и молиться рукою. Между генеральшами одна напоминает мне преблагословенное время юности, когда у нее не было еще ни детей, ни внучат и сама она была легкомысленная чечетка. Да! Здесь она, которая когда-то крикнула «президента» и упала под стол.
Ее давний «петушок» теперь достиг уже всего, чего он мог достичь, и в нынешнем году выходит в тираж. Будущим летом они уже не будут жить в Меррекюле.
Мы едва узнали друг друга и, конечно, не много говорили о прошлом. Мы чувствуем, что мы стары и нам некстати вспоминать, какие мы были в то время, когда она упала под стол. Генеральша, по-видимому, желает поддерживать со мною знакомство, но так вежлива, что старается говорить всегда о таких вещах, которые мне неинтересны. Впрочем, иногда она говорит со мною о Толстом, которого она «похоронила для себя после Анны Карениной». Как он «пошел косить» – она ему сказала: «Прощай, батюшка!» Она на него, однако, «не нападает, как другие». «Зачем, нет! Пускай он себе думает что хочет, но зачем он хочет это распространять. Это не его дело. Суворин его отлично… Он его почитает и обожает, а на предисловие к сонате отлично… Не за свое дело и не берись. Род человеческий кончаться не может… Суворин отлично!..» На эту тему генеральша неистощима и всегда сама себе равна: Суворина она ставит высоко: «il a une bonne tête»,[8] а Толстой «гениальный ум, но се n'est pas serieux, vous savez.[9] Толстому, по-моему, одного нельзя простить, что он прислугу и мужчин портит. Это расстраивает жизнь. У меня была честная, верная служанка – и вдруг просит: „Пожалуйста, не приказывайте мне никому говорить, что вас дома нет, когда вы дома: я этого не могу“. – „Что за вздор такой!“ – „Нет-с, говорит, это ложь – я лгать не хочу“. И так и уперлась. Чтобы не давать дурного примера другим, я должна была ее отпустить, и только тогда узнала, что эта дурочка всё „посредственные книжки“ читала. Но зато теперь у меня служанка, ох, какая лгунья! Каждое слово лжет и кофе крадет; но надо их почаще менять, и тогда они лучше. Другое дело мужчины: это самый беспутный и глупый народ на свете, и главное, что с ними нельзя так часто менять, как с прислугой. У них на уме то же самое, что было у нигилистов – чтобы не давать содержания семейству; но это в таком роде не будет: все останется, как мы хотим».
Не знает она основательно ничего, или, точнее сказать, знает только одни родословные и мастерски следит за тем, кто из известных лиц где живет и в каких с кем находится короткостях. Она считает себя благочестивой, и ее занимает распространение православия среди инородцев. Меррекюль чрезвычайно удобен для этого рода занятий: здесь есть православный храм, «маленький, как игрушечка», много чухон или эстов, которые совсем не имеют настоящих понятий о вере. Среди них возможны большие успехи.
Прежде тут была только лютеранская каплица, построенная в лесу. Она и теперь на своем месте. Ее называют Waldkapelle.[10] Она вся из бревен и крыта лучиною; в ней есть орган и распятие да на вышке небольшой колокол. Ни внутри, ни снаружи нет никаких портативных драгоценностей. Перед капеллою расчищена полянка, посредине которой приютилась маленькая колонка. Это памятник Ренту; а вокруг, под большими великолепными соснами, стоят скамейки, на которых любят сидеть охотники до поэтической тишины. Здесь прелестно читать, и этим пользуются немногие любители чтения, какие кое-где еще остаются. Хорошо идесь играть и в крокет, но это не позволяется. На дорожках, ведущих к капелле, есть столбы с надписями: «Просят не играть в крокет у капеллы». По мнению немцев, дом молитвы надо удалить от шума: ему пристойна тишина. Няньки этим недовольны и приводят сюда генеральских детей, которые тщательно брыкают ногами в памятник покойного владельца Меррекюля и стараются оборвать окружающие цоколь цепи. Люди бурных инстинктов не найдут это место веселым; но многие говорят, что здесь им «хотелось молиться».
Лет двадцать или больше назад сюда по некоторым особого рода обстоятельствам прибыл из Петербурга православный священник Александр Гумилевский. Он был человек молодой, горячий и мягкосердечный, с любовью к добру, но без большой выдержанности и последовательности. Он начал проповедовать и так увлекся своим маленьким успехом, что счел себя за Боссюэта и позабыл об Аскоченском, которым тогда действовал в духе и силе нынешнего Мещерского. За это неосторожный бедняк был смещен из Петербурга в Нарву, где все чрезвычайно не нравилось и ему и его домашним.
Думали однако, что он еще дешево отделался и что ему могло бы достаться гораздо хуже; но митрополит Исидор не любил портить жизнь людям.
Вина же Гумилевского состояла в том, что он «увлекся духом христианина» и вообще был родствен по мыслям архимандриту Федору Бухареву, который все хотел примирить «православие с современностью», и достиг только того, что его стали называть «enfant terrible[11] православия». Аскоченский, как жрец, «заклал» его и «обонял воню его крови». Но архимандрит Бухарев был умнее и характернее Гумилевского, и притом он был одинок в то время, когда Аскоченский вонзил ему в грудь свой жертвенный нож и «бегал по стогнам с окровавленной мордой». Одиночество для борца – большое удобство!
В Нарве Гумилевскому приходилось терпеть и от своих и от чужих; а главное, здесь ему не перед кем было говорить свои экспромты. Русская публика в Нарве к этому не приучена, и жаждавший деятельности молодой и действительно добрый человек почувствовал себя лишенным самого дорогого и приятного занятия и начал было заниматься иным делом, но остановился. В Меррекюле он встретил знакомых петербургских генеральш и задумал с ними построить здесь «маленькую, но хорошенькую православную церковь». В ней добрый священник надеялся опять «расширить уста своя», так как он мог надеяться, что идоложертвенный Аскоченский имеет на кого метаться в Петербурге, и что будет сказано за Нарвою – он того не услышит. Можно будет говорить самые смелые вещи, вроде того, что все люди на свете имеют одного общего отца; что ни одна национальность не имеет основания и права унижать и обижать людей другой национальности; что нельзя молиться о мире, не почитая жизни в мире со всеми народами за долг и обязанность перед богом, и т. д. и т. д. Все это Гумилевский любил развивать в петербургском рождественском приходе и хотел пустить генеральшам в Меррекюле, что и было бы кстати.
Выбор места для русской церкви в Меррекюле был обдуман «с русской точки зрения». Церковь не хотели прятать, как Вальдкапеллу, а напротив – находили, что нужно «выдвинуть ее на вид». И потому ее построили при большой дороге, по которой ездят в Нарву на базар и к бойням, где режут животных на мясо. Церковь должна всем бросаться в глаза: через это кое-что может перепадать в кружку от прохожих и проезжих (последнее, однако, не оправдалось, но, может быть, только потому, что чухны очень расчетливы и скупы). Во внешней отделке русская церковь тоже превзошла Waldkapelle. Та хотя и привлекает своим gemütlichkeit'ом,[12] но лишена всякого блеска, и в ней даже украсть нечего. Нашу церковь покрыли белою жестью и раззолотили по кантам. «Золото заиграло на солнце», а ночью к алтарю храма протянул свою дерзкую руку вор и унес кое-какие ценности, которые ему попались под руку. Потом это повторилось и еще раз, а проповеди, в том духе, как предполагал Гумилевский, в этой «маленькой, но хорошенькой» церкви не последовало. Гумилевскому, который надеялся направлять курс нового корабля по-своему, не пришлось этого выполнить. Его пожалели и возвратили в Петербург в больничную церковь «напутствовать умирающих», которым он мог говорить что угодно, а они могли узнавать о пользе его внушений только в новом существовании. О проповеди в Меррекюле более не заботились. Меррекюльскую церковь приписали к собору в Нарве, откуда и до сих пор приезжают сюда священник и дьякон, служат вечерню и всенощную в субботу, а на другой день обедню, и опять уезжают в Нарву.