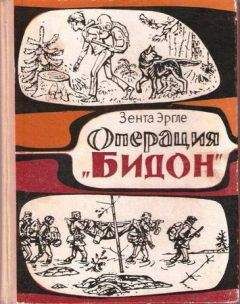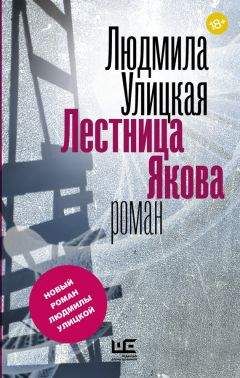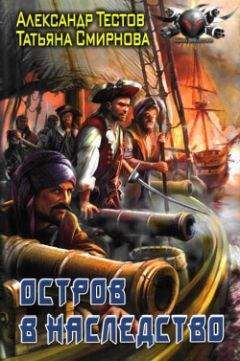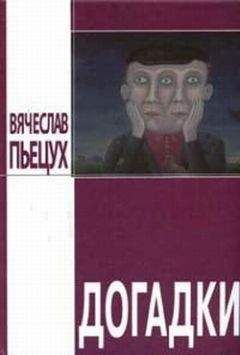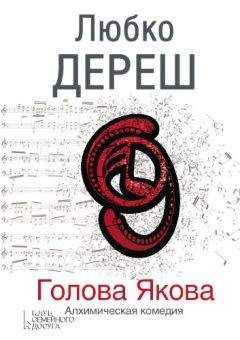В Соловьев - Три портрета - Шемякин, Довлатов, Бродский
И как бы ни мотала судьба Бродского и Шемякина по белу свету, оба как были, так и остались петербуржцами - в большей мере, чем русскими, эмигрантами или космополитами. Либо имя их Космополису и есть Петербург, самый европейский, самый нерусский город в России? Редко когда такой локальный, местнический, почвенный патриотизм, patriotisme du clocher, патриотизм своей колокольни, так естественно, без натуги врастает в мировую культуру.
Посредине зала на мемориально-ностальгической выставке Шемякина в Мими Ферст ("Петербургский период", весна 1997), под стеклянным колпаком помещена была ностальгическая инсталляция. Петербургские фотографии Шемякина, старинная книга, скульптурная голова Петра Великого, череп, бутыль, ступа с тяжелым пестом, подсвечник, нож, две оловянные
тарелки: на одной - полбуханки вековой выпечки, на другой - того же времени усохшие фрукты. А вокруг, на стенах - пейзажи, натюрморты, бурлески, галантные сцены и метафизические головы, которые создавал Шемякин в Питере, начиная с пятнадцатилетнего возраста. Не поразительно ли - чуть ли не все лейтмотивные образы Шемякина впервые возникли именно в Питере, вот где его творческие корни, завязь его чудодейственного искусства, вплоть до некрофильских мотивов. Понятно, что Шемякин не ограничен Петербургом, но так же без него непредставим, как Шагал без Витебска. Или - как непредставимы без Петербурга Гоголь, Достоевский, Добужинский, Бенуа, Мандельштам, Ахматова, Вагинов. Петербург не только как географическое, но как культурно-историческое понятие - не приписка в паспорте, но внятный художественный код. Не надо путать место рождения или жительства с внутренним ощущением: несмотря на свои частично, по отцу, кавказские корни (из кабардинского нобилитета, княжеского рода Къардэн - отсюда. по-видимому, генетически в нем заложенные рыцарские представления); несмотря на то, что родился в Москве, детство провел в Германии, восемь лет прожил в Париже и вдвое дольше уже живет в Америке, являясь ее натурализованным гражданином, Шемякин чувствует себя скорее петербуржцем, чем парижанином, американцем или даже русским. Последнее странно только на первый взгляд. Что такое сейчас русский? В результате исторических катаклизмов уходящего столетия само понятие "русскости" размыто. Иное дело - Петербург.
- Петербург воспитал меня как художника и человека, - признается Шемякин. - Помог создать свой мир - мир карнавалов, мир моих натюрмортов, который зарождался во мне в те далекие шестидесятые годы...
Он, конечно, принадлежит к музейному племени - потому и устроился грузчиком в Эрмитаж, чтобы быть поближе к старым мастерам. Приходил задолго до открытия, в одиночестве бродил из зала в зал, долго простаивал у любимых полотен, копировал Пуссена и Делакруа, познакомился с "маленькими голландцами" и Рембрандтом, которому посвятит впоследствии целый альбом. Полагаю даже, что замышленная им скульптурная группа из двенадцати рыцарей в шлемах и доспехах имеет своим далеким прообразом оружейный зал Эрмитажа. Здесь же на "выставке такелажников" в 1964 году показаны были его работы скандал был грандиозный: спустя три дня выставку прикрыли, а на четвертый день сняли директора Эрмитажа Михаила Артамонова. Тридцать лет спустя, осенью 1995 года, новый директор Михаил Пиотровский открыл в Эрмитаже ретроспективу бывшего музейного грузчика.
Было бы упрощением однозначно оценивать Петербург как культурную колыбель. Сколько художников и поэтов так в ней навсегда и застряли, поглощенные традицией, обреченные на повтор и стилизацию. Разве не поразительно - "Мир искусства", который сыграл огромную роль в формировании русского модерна, не выдал ни одного крупного живописца.
Александр Бенуа со товарищи были блестящими книжными иллюстраторами, талантливыми театральными декораторами, наконец, культуртрегерами в широком смысле слова, но в истории русской живописи у них весьма скромное место. Даже Константин Сомов, самый, пожалуй, талантливый среди них живописец, так и не достиг европейского уровня, не вырвался за пределы мирискусстнической эстетики.
Несомненно, их петербургские и версальские стилизации - как и исторические реминисценции Серова - повлияли на Шемякина, откликнулись в его иллюстрациях к Достоевскому и Гоголю, в театральных эскизах, в графическо-скульптурном сериале "Карнавалы Санкт-Петербурга", наконец, в центральном образе его петербургского цикла - императоре Петре Первом. Однако как Достоевскому мала гоголевская "Шинель", из которой, по его признанию, он вышел, так и Шемякину довольно скоро оказалось тесно в мирискусстнических пределах. Я бы сказал, что он переболел мирискусстничеством в легкой форме - не болезнь, а прививка против болезни. Конечно, кое-что сближает его с петербургскими культуртрегерами до сих пор скажем, первичность формы, прерогатива рисунка над цветом. Однако его сполохи и разломы цвета, их таинственные кабалистические столкновения - даже в графике, которая у Шемякина часто не очень отличается от живописи, - все это, конечно, не снилось ни одному из мирискусстников. Что он от них взял, что усвоил и чему остался верен, так это скорее общекультурная, чем стилевая установка, безупречный художественный вкус, эстетическая разборчивость, ориентация на классическое искусство и старых мастеров, как бы своеобычны его поиски ни были - отсюда такая его всеотзывчивость, всевоплощаемость, повышенное чувство других культур и художников. Мы с ним говорили о Венеции, которую оба любим, как о близком, родном, а не чужом городе. Я сказал о преследующих меня там петербургских ассоциациях, а Шемякин, который устраивает на тамошнем карнавале хеппеннинги, разгуливая с друзьями в костюмах и масках из своей петербургско-карнавальной серии, сказал, что у него такое чувство, будто его трость когда-то уже стучала по венецейской брусчатке.
То же самое с его исторической - по отцу - родиной, где он впервые побывал осенью 1996 года и где его принимали, как национального героя: у подножия Эльбруса он понял вдруг подсознательную основу некоторых своих композиций, тяги к пепельно-серому колориту - будто бывал здесь прежде, в какой-то иной инкарнации. Помимо генетических, есть еще, по-видимому, мистические корни, особенно у таких метафористов, как Шемякин, с его поразительной способностью к театральным перевоплощениям, к мгновенным мысленным перемещениям из своего времени в прошлое. Да и что такое для художника "свое время", когда он сосуществует одновременно в разных? Как писал молодой Илья Эренбург:
В одежде гордого сеньора
На сцену выхода я ждал,
Но по ошибке режиссера
На пять столетий опоздал.
Оттого, собственно, и все эти перевоплощения, что в одной только современности Шемякину было бы одиноко, тоскливо и тесно. На то и магический кристалл искусства, чтоб расширять горизонты, приобщаться к прошлому генетическому, историческому или легендарному; петербургскому, венецианскому или кабардинскому. Маски и лики, в которые художник глядится, как в зеркало.
Вот еще одно его театральное представление - изумительный альбом "Жизнь Рембрандта", листая который, я вспомнил учение Эммануэля Сведенборга о таинственном сродстве душ. Впрочем, этот сериал в той же мере автопортрет Шемякина, что и портрет Рембрандта. Продолжу театральную параллель: Шемякин играет Рембрандта не по Станиславскому, а по Мейерхольду или по Брехту, то есть остраненно - перевоплощаясь и одновременно оставаясь самим собой.
Рассматривая работы Шемякина в хронологическом порядке, поражаешься, как быстро он осваивает, всасывает чужие традиции, будь то Сезанн, Дюрер, Сутин или Ян Мостаерт - классики, современники или примитивисты. Словно гигантская губка! Даже о соцреализме отзывается с уважением и симпатией. То, о чем писала Ахматова: "Налево беру и направо..." И как он благодарен своим учителям и товарищам, редчайший в художническом мире альтруизм! Мало кому ведомого живописца Михаила Шварцмана называет гениальным человеком и мечтает издать двухтомник его работ. В своем собственном двухтомном альбоме помещает репродукции картин своих коллег, а у него в мастерской висят их оригиналы. Даже в его парке бок о бок с его собственными скульптурами, стоят чужие: упомянутые огромная голова работы Леонарда Баскина, а голый Чехов - Михаила Аникушина. Своей школе при Репинском институте, в которой ему так и не дали доучиться, отдает денежную часть полученной им от Ельцина премии.
- Почему я благодарен своей школе? Для того, чтобы экспериментировать, надо овладеть первоначальными навыками.
Вот именно: сначала научиться, а потом выкинуть из головы, чему учили, как считала Анна Голубкина, русский скульптор-импрессионист. А моя учительница, помню, говорила: кто помнит правила, никогда не научится писать грамотно.
Родной свой город Шемякин отдарил щедро и многократно: не только деньгами и выставкой, но - и это, пожалуй, главное - тремя памятниками, а в замысле еще и четвертый (двенадцать двухметровых "петрушек" во главе с Петром Великим в кошачьей маске). На набережной Робеспьера, в аккурат против следственного изолятора "Кресты", стоит его памятник политзаключенным: двуликие сфинксы - девичья половина обращена к набережной, а оскаленный череп к бывшей тюрьме. На кладбище Сампсониева монастыря - в честь Сампсония Странноприимца, покровителя странников, - памятник иностранным первостроителям Петербурга: шестиметровая гранитная стена, под часовню, с бронзовыми барельефами и французским окном, рама которого образует крест; перед окном - бронзовый стол, на нем подсвечник, карта (изначальный план Петербурга) и скромный натюрморт - хлеб, сыр, бутыль; перед столом - кресло. (Над обоими памятниками успели уже надругаться - подсвечник отломали, лики сфинксов измазали белой краской.)