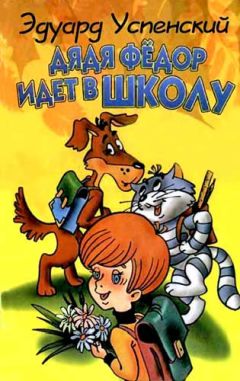Федор Крюков - Без огня
— Вы очень уж сгущаете тени, — заметил я о. Михаилу.
— Нет! — твердо, убежденно сказал он. — Когда наступит время мужику распорядиться и если мы доживем до этого, вы увидите, с какой стороны он себя покажет… Неожиданностей в нем — бездна… Одно хулиганство деревенское какие перспективы открывает… Слыхали вон, купец-то толстый говорил?
— Как же…
— Вот то-то!
— Но… дикость и раньше была…
— Была дикость и раньше, это так… Но дикость, так сказать, в пределах неизбежности, объяснимая. Без этого не обойтись. Но не было дикости ради дикости, озорства — как это по-ученому? — квалифицированного, кажется… так себе, за здорово живешь… Ну, пили. Пили нелепо, безвкусно и жалко. Без всякой радости и веселья пили. Проигрывались в «орла», в карты. Обкрадывали друг друга, самих себя обкрадывали. Сворачивали скулы друг другу… сквернословили… все было. Выступал я на борьбу с этим злом, произносил проповеди в церкви, громил «орлянку» и карты, и похабные частушки, и сквернословие, и пьянство, и поножовщину. Старики, старушки, слушая меня, плакали, головами качали, а молодежь в это время толчется где-нибудь в ограде, с девками заигрывает… Пришлось бросить: руки опускаются. Отчаялся. Жизнь, видно, сильнее слов…
— Может быть, и во мне не было огня достаточного, уменья… Но я отчаялся. Попробовал еще в одном пункте: обратил внимание на детвору. Детей я люблю. В этой разнокалиберной мелкоте с ясными глазенками, пестрой, заплатанной и оборванной, было и есть все мое упование, вся моя надежда на родину… Стал наставлять. Детская душа — чистый воск, лепи что хочешь. И я лепил… Девочки особенно были дороги мне — будущие крестьянские матери, — какие это чуткие, чудесные сердца. Начнешь рассказывать им о страданиях Христа или житие какое-нибудь, — слушают, слова не проронят и… плачут… Чувствуешь, как сотрясаются их детские сердечки, пронзаются жалостью и состраданием… Тут-то вот бывало и отдохнешь душой… Сердце порадуется, сердце поскорбит… А скорбит потому, что в школе они одно слышат, а на улице, дома — другое, и жизнь сильнее самых лучших школьных слов… Детская душа отпечатывает в себе все — четко и прочно, восприимчива ко всему. Был какой-нибудь Ванюха Клюев в школе славным, смышленым учеником. Вышел из школы — смотришь: через месяц уже с папироской… А там и до водочки недалеко…
О. Михаил грустно покачал головой и задумался.
— Чем же вы объясняете усиление деревенского хулиганства? — спросил я.
— Вот… новыми словами, новыми понятиями… Полупрозрением-то этим самым и отчаянием…
— А раньше — какая была причина?..
— Раньше?.. — О. Михаил остановился и поглядел на меня неподвижным, соображающим взглядом. — Раньше — другое дело… Было, конечно, озорство, непочтение, но не так оно резало сердце… А теперь — помилуйте! Усвоились если не новые понятия, то новые слова… великолепные слова, благородные, возвышенные… А сквернословие осталось старое, даже пуще. Дикость — старая. Обрезать у коровы уши, остричь хвост у лошади по самую репицу — только из-за того, что хозяин ее не поставил угощенья ребятам, — раз плюнуть, как говорится. Забраться в сад или на пчельник и за здорово живешь раскидать, разорить ульи, обломать яблони, подергать малину — это сделайте ваше одолжение! А там ищи виноватого… Да и напал если на след — не распространяйся, а то подожгут… И вот при новых-то словах о свободах, о равенство это и пронзает сердце, в отчаяние повергает… В табельный день на молебствии — ни души. Девки за какую-нибудь ленту или даже за пряник отдаются не только молодому парню, а любому проходимцу, хотя бы явно гнилому… А поножовщина? И прежде редкий праздник без драки обходился, теперь же как где ярмарка, два-три трупа непременно считай! А вот теперь этот новый закон о земле, — брат на брата восстал, сын на отца, сосед на соседа!.. Злоба и смута пошла такая, что задохнется в ней деревня, непременно задохнется!..
— К концу второго года своего служения в селе я окончательно и бесповоротно убедился, что все мои разглагольствования, все призывы к церкви, к христианской жизни, к союзу, к самоуважению ближнего — все это пустой звук, кимвал бряцающий… Надо бежать — думаю. Тут как раз и обстоятельства подоспели такие, что одно оставалось — бежать: всплыли эти самые мои объяснения свобод… Хотя в глазах мужичков я был уже и малопопулярен, слишком умерен, но люди, преданные порядку, считали меня именно агитатором. И когда подошел удобный момент, они и принялись за меня. Был один там у нас человек почтенный, ходатай по делам, из волостных писарей. Благочестивый такой мужичок, уже немолодой. Бывало, уж не пройдет мимо без того, чтоб под благословение не подойти… Голос тонкий такой, ласковый, смиренный, речь рассудительная. А уж такая язва оказался, такая язва… И как будто ничего я ему не сделал плохого, относился, как и ко всем прихожанам, благожелательно. Бывал он у меня не раз, не раз чай пил, газетки брал, беседовал, рассуждал вполне здраво — неглупый человек. И вообще само это движение ущерба ему лично никакого не причинило. Я вот возненавидел он меня за что-то, начал пакостить. А может, и без ненависти? Так себе, из любви к искусству?..
О. Михаил вопросительно смотрел на меня.
— Есть ведь это в природе человека — зуд к пакостничеству, даже совершенно бескорыстному. Этак исподтишка укусить, столкнуть в яму, в воду — единственно потому, что ловко и безнаказанно можно это сделать и отчего бы не поглядеть, как будет барахтаться в испуге или извиваться от боли человек, испытать минутную злую радость… Вот этот-то почтенный господин и донес о моих разъяснениях манифеста. Ну, конечно, сейчас дознание, жандармский офицер приезжал. И несдобровать бы мне, но спасло лишь невежество доносителя и его союзников — человека четыре их оказалось: не сумели они указать, как именно говорил я о свободах. А мужички прихожане — спасибо им — уперлись: «Ничего, мол, нам вредного не говорил, а вот, дескать, не пейте водки, дурными словами не бранитесь, вот и все…» Ну и жандарм-то попался не из очень усердствующих. Однако я-то праздновал трусу, — время такое… Не чаял выбраться. Да и после, в академии, года два ждал, как бы не всплыло насчет моих разглагольствований: а ну-ка, мол, докопаются, узнают? Книжки все, газетки тогда же сжег. Ну и совсем потерял веру в мужичка… даже в человека. Достоевского все вспоминал: отвлеченно, мол, еще можно любить ближнего, даже иногда издали, но вблизи почти никогда…
Мы остановились и смотрели на пробегающий мимо берег, крутой, размытый, красно-глинистый, прорезанный ложбинками с мелколесьем. На самом гребне, над кручей, сидели в ряд и рассеянными точками маленькие человеческие фигурки и долго провожали наш пароход глазами. Ребятки или взрослые — не разобрать издали. Махали платочками, картузами, и этот ласковый привет от скуки звал к миру и единению, к забвению обиды и горечи… Тоненькие березки с зелеными косичками всползали наверх. Из-за гребня выглядывала зеленая крыша церковки, сверкала белостенная дачка с узорчатыми башенками и кружевными беседками. А дальше волнилась яркая зелень, карабкающаяся вверх, перепрыгивающая через коричневые плешины берега.
— Вот оно что такое политика! — с усмешкой качнул головой о. Михаил, — не еж, а колется… И, тем не менее, — помолчав, прибавил, — никуда от нее не уйдешь… Как угар в мужицкой курной хате: тем и спасаются от него, что на пол ничком ложатся… Но ничком-то лечь при моем сапе не так-то уж просто: пастырь душ христианских, позиция общественная, обязывающая… Да и вообще человек — животное общественное, а не какой-нибудь рак-отшельник… Значит…
Он покорно развел руками и сделал приглашающий жест.
— Вот сейчас еду, например… Епархия все еще не умиротворенная после прежнего архиерея. Новый — наш бывший ректор — выметает старых фаворитов, позвал вот нас троих, меня и еще двух товарищей… Роли мы сами распределили — меня в соборные протоиереи. «У тебя, — говорят, — внешность представительная…» И не поехал бы, ибо и тут политика, — правда, епархиальная, а все-таки политика… Но как хлебнул уже нужды, а тут жена грудью слаба, доктора непременно в теплый климат советуют — принял предложение… Вот еду. А на душе нехорошо… Соборный настоятель там — старый протоиерей. Уж Бог знает, каких он там взглядов, а говорят — старик почтенный и сторонников там у него много… И вот я — человек всем безвестный, молодой, ничем никому не ведомый, являюсь вдруг и должен этого почтенного протоиерея, что называется, спихнуть… Тяжело это… А нужда… Нужда, проклятая нужда!.. Ничего не поделаешь: назвался груздем — полезай в кузов…
Прошли мимо барышни в сопровождении Мещерякова. Поравнявшись с ним, они переглянулись и весело фыркнули. Блондинка успела бросить мне вполголоса, умоляюще:
— По-зна-комь-те!..
А Мещеряков суровым тоном говорил, глядя вниз, в пол: