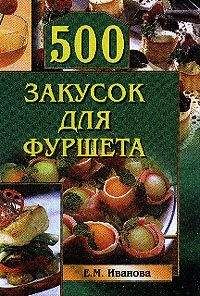Андрей Соболь - Человек за бортом
Клубок бинтов заметался по подушке, и между ним и Гиляровым тотчас же выросла напряженная фигурка подпоручика Разумного, и фигурка замахала руками.
Гиляров вышел из комнаты, спотыкаясь в коридоре об ящики, наугад побрел к выходу, в одной комнате запутался, в другой опрокинул столик и, наконец, добрался до крыльца, где некоторое время спустя подпоручик нашел его сидящим на верхней ступеньке.
Подпоручик молча присел рядом, и оба долго сидели — один слишком прямо, как будто его насильно держали в таком положении, другой согнувшись, маленькие, как у ребенка, посиневшие ладошки сжав коленками, оба не спуская глаз с озера, где раньше плавали черные лебеди и сильным крылом били по воде, где когда-то в ажурной беседке читали вслух Новалиса.
И слушали, как рядом, за освещенными окнами, стучали ножами, вилками, гремели тарелками: господа офицеры из штаба ужинали.
IIIМолчание нарушил подпоручик; он продолжительное время ерзал на одном месте и, когда до боли натер ладони, робко заговорил:
— Мне можно завтра? Вместе с вами?
— К чему? — спросил Гиляров, не оборачиваясь, все пристальнее и пристальнее всматриваясь в озеро.
— Да вот… — Подпоручик поглядел в небо — туда, где белесоватый круг замкнул луну, — и замигал ресницами. — Да я… Ведь я секретарь комитета… Меня солдаты… — И вдруг воскликнул жалобно: — Я не могу иначе. — И не то горестно, не то сконфуженно кинулся с крыльца, стуча громоздкими, не по ноге, сапогами.
— Постойте! — негромко окликнул Гиляров.
Подпоручик остановился и ниже надвинул фуражку: длинный козырек почти уткнулся в нос.
— Постойте. Хорошо, поедем вместе. Присядьте.
Подпоручик сел на нижнюю ступеньку, отвернулся, поднял воротник шинели, и комиссар увидел, что левое ухо его загнулось, как-то смешно, грустно и обиженно. Комиссар подался вперед, протянул руку, чтобы поправить, но тотчас же отнял ее, опять выпрямился и только спросил: — Вам тяжело?
— Ужасно, — быстро отозвался подпоручик.
— Уезжайте. Хотите, я это устрою. Только скажите, куда бы вы хотели.
— Куда? — и снова подпоручик глянул в небо и снова заморгал ресницами. — Все равно, — проговорил он как бы про себя. — Все равно. — И заячья губа его дрогнула.
— Везде?
— Везде, — сказал подпоручик.
— А вы верите, — Гиляров с трудом подбирал слова, — а вы верите, что еще будет хорошо? Что еще… сбудется?
Подпоручик стиснул руки под шинелью и ничего не ответил.
— Значит, все равно?
— Все равно, — ответил подпоручик и голову положил на перила.
IVЧаса два спустя, уже вызванный командующим армией к аппарату и поговорив с ним, Гиляров шел к генералу. По дороге попадались ему офицеры и безмолвно кланялись, в столовой два солдата подметали пол, и один из них, увидев комиссара, бросился к буфету за салфеткой и прибором, но Гиляров остановил его, заявил, что ужинать не будет. В комнатке перед кабинетом генерала, в золоченом облупленном кресле дремал вестовой, и кренился над ним потемневший портрет женщины в розовом, безглазой: вместо глаз — пульки. Не будя вестового, Гиляров постучал в дверь.
— Войди, — послышалось за дверью.
Гиляров толкнул дверь.
— Это не вестовой, — сказал он на пороге. — Это я.
Растерянно натягивая на себя одеяло, генерал непослушными ногами ловил туфли, не мог найти и присел на краешек постели; под тонкой шелковой фуфайкой блестел крестик, и на покрасневшей мигом шее забелел узенький след от цепочки.
— Я не знал, что вы уже в постели, — продолжал Гиляров, все еще стоя на пороге.
— Прошу, прошу, — бормотал генерал и теребил подбородок и приглаживал височки.
— Я на рассвете еду к солдатам. Я только что говорил с командиром, и я хотел вас предупредить. Я иду на все. Или они завтра к вечеру займут указанное место. Или я… Ну, и вот. Через час сюда направится Третий драгунский, одна батарея и казачья сотня. Утром будут здесь. Если угодно, вы можете сдать дивизию полковнику. И можете уехать в штаб армии. Так вот… остаетесь?
Генерал оставил височки и качнул головой; сползло одеяло, и под фуфайкой заколыхался выпуклый толстый живот.
Гиляров отвел глаза.
— Так вот, я еду. До свидания. А письмо ваше…
Генерал зашаркал ногами, снова стал искать туфли.
— Письмо ваше… мне понятно. Всего хорошего.
— Господин комиссар… — тихо, но внятно позвал генерал. — Если вам не трудно… на полчаса…
Гиляров отпустил ручку двери, беглым взглядом поймал неуверенную, надломленную улыбку генерала и, на ходу сбрасывая шинель, подошел к кровати: «Векфильдский священник… Все равно».
VИ до рассвета горела лампа в генеральском кабинете, где над кроватью висел гобелен «Похищение Прозерпины» и где по столу с картой обоих полушарий торопливо, по-осеннему шмыгали тараканы, невозмутимо переходя из Европы в Азию.
Глава четвертая
Чуть свет выехали втроем, верхами; присоединился и председатель дивизионного комитета. А фельдшер провожал и на прощание скороговоркой, но внушительно давал председателю последние наставления, на ухо, встав на цыпочки; скособочившаяся голова председателя никла к лошадиной гриве и кивала послушно.
Первым на очереди был Старорусский полк, самый надежный.
У избы с погорелой крышей, где заседал полковой комитет, солдаты собирались вяло, по два, по три человека, обмахивались, когда комитетчики поторапливали, на ходу в липняке ломали ветки, но тут же, поиграв прутьями, бросали их, лениво переругивались, нехотя перекликались. Стоя у окна, следя за ними, Гиляров видел перед собой скучающую толпу, не знающую, что ей делать: улюлюкать ли проезжающей мимо бабе в рваной австрийской куртке, или колотить рябого плосколицего солдатика с сережкой, который приставал ко всем, заламывал шапку, притопывал ногами и кукурекал по-шутовскому. За его спиной подпоручик Разумный, уже застегнутый на все пуговицы и потому сосредоточенный, шептал:
— Не будут слушать. Вы одно только слово скажете, как они уйдут. Так было на прошлой неделе, когда мы умоляли взяться за постройку землянок. Повернулись и ушли.
Зобастый председатель, загнав комитетчиков в угол, что-то хрипел им, и раздавалось там то и дело: «Революция, значит… значит, порядок надобен»… Безостановочно хлопала дверь, шинель напирала на шинель, в подслеповатое оконце заглядывали узкие, толстые, вздернутые носы, недовольный голос тянул: «Санька, где ты?» — у крыльца пофыркивали лошади, и солдат-татарин, заткнув полы за веревочный пояс, совал лошадям мокрое сено и уговаривал ласково: «Кускай. Кускай».
И этот же татарин прямо глядел в рот Гилярову, когда тот с табуретки говорил солдатам, и он же радостно пискнул: «Иса, ца-ца», когда кривоногий ефрейтор с багровым родимым пятном во всю щеку крикнул комиссару:
— А зачем вы всякую сволочь в министерах держите? Не хотим таких. Кого в Париж посулом отправили? Капиталиста. Такой все посулит. Пусть вертается — тогда и говорить будем. Не пойдем!
Весело захлебывался жизнерадостный татарчонок: «Ай-ай, министра, ай-ай», добродушно, как только что упрашивал лошадей «кускать», — единственный весельчак, вертевшийся во все стороны, точно недавно оперившийся воробей среди серых и голодных галок.
IIИ снова лошади понуро шлепали по лужам. Снова у Гилярова из-под ног убегали стремена, и снова придвинулась новая «комитетская» изба, но с тем же запахом ржаного хлеба и махорки. И опять кто-то звал недовольно: «Гришка, где ты?» — и опять солдаты тащили табуретку, а вокруг нее смыкались кольцом такие же, как в Старорусском полку, сухо замкнутые глаза.
И снова самому себе слова казались никчемными, и снова и снова тянулись поля, взрыхленные снарядами, придавленные пушечными колесами, обмытые кровью, человеческой кровью, которую временно лишь смыли дожди, но которая вновь и вновь польется по ухабам, по колеям, по межам и на многие годы напоит землю — землю людскую, землю божью, землю ничью и всех.
А перед вечером Гиляров в аппаратной дивизии диктовал в полковые штабы о немедленном распространении по полкам его приказа о том, чтоб под угрозой военной силы полки складывали оружие и выдавали зачинщиков, и что если к семи часам утра не последует сообщения об исполнении, дивизия будет окружена и обстреляна.
К вечеру в штабе все притихло, как на мельнице, где вода уже не бьет через плотину и где замерли жернова в белой пыли от последних размолотых зерен. В столовой стыл суп, и тщательно свернутые салфетки лежали около пустых приборов; в задних комнатках маленькими группками сходились офицеры, а собравшись, подолгу молчали и только курили беспрерывно. Поджарый подполковник фон Гутлебен не рассказывал анекдотов из армянской жизни, на кухне прислуга глушила самовары, и самовары, понатужившись, замурлыкали огорченно, — и только не переставая гудели полевые телефоны.