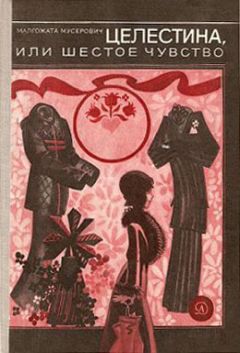Александр Куприн - Шестое чувство
- Вот эта статья, - спросил он бесцветным голосом, - озаглавленная "Михаил Александрович", не вами ли она написана?
- Мной.
- Единолично или в сотрудничестве с другими лицами?
- Одним мною.
- Что же вы хотели этой статьей сказать?
- Да ведь в статье все сказано. Вы ее, конечно, прочитали?
- Прочитал или не прочитал - это другой вопрос. Мы желали бы только знать, какие мысли или идеи хотели вы внушить широкой публике посредством вашей статьи?
- Совсем я ничего не хотел. Мне просто стало стыдно за представителей нового режима. Зачем они подвергают Великого Князя таким незаслуженным оскорблениям, унижениям и стеснениям? Он простой и добрый человек. Он совсем не властолюбив. Наоборот - у него отвращение к власти. Он родился в высокой царской семье, но душою и всеми помыслами он истинный прирожденный демократ. Он бесконечно щедр. Он не может видеть нужды, чтобы не помочь ей немедленно. Наездники Дикой дивизии обожали его, называя "наш джигит Мишя". Он женился без разрешения престола, на женщине, которую полюбил, и был за это долго в опале. Когда отрекшийся Государь оставил власть в его руки, он первый сказал: я последую воле народа. Он редкий, почти единственный человек в мире по чистоте и красоте души и т.д. и т.д. Я процитировал ему всю статью мою наизусть и закончил словами: вот и все.
Настала тишина. Он долго, очень долго глядел на меня своими неглядящими глазами. Лицо его не изменилось. У меня было такое же тревожное и брезгливое чувство, которое невольно испытываешь, оставшись один на один с тихим сумасшедшим.
Вдруг он очнулся.
- Итак, - равнодушно сказал он. - Из ваших слов я могу вывести только одно заключение: что вы не только ненавидите, но и презираете установленную пролетарскую народно-рабочую власть и ждете взамен ее Великого Князя Михаила Александровича, как бы архистратига Михаила, стоящего с огненным мечом. Не так ли?
- Мне хотелось сказать ему: "балбес", но я ответил уныло:
- Да какая же здесь связь?
И опять мы скучно замолчали. Я обернулся на матроса, моего проводника. Он сидел с кислым, но смешливым лицом, щурясь, курил папиросу. Я вспомнил, что забыл свой табак внизу, и попросил: одолжите покурить.
Он охотно и предупредительно дал мне папиросу и зажег спичку. И еще прибавил другую папиросу про запас.
Мы опять довольно долго говорили со следователем, но у нас по-прежнему ничего не выходило. Я очень был обрадован, когда он наконец сказал:
- Можете идти. Все равно: все ваши уловки, обходы и разные хитрости вам не помогут. Правосудие все равно доберется до ваших гнусных замыслов.
Мы медленно спускались вдвоем по узкой железной лестнице, часто останавливались на площадках. Слабо светили перегоревшие электрические лампочки. Зубры выставляли вперед свои грозные крутые рога.
- Что? Не особенно понравился вам следователь? - спросил вдруг матрос.
- А вам? - спросил я.
- Да, конечно, ишак карабахский, "трепло", как говорит наша матросня. Да ничего, придут и настоящие работники. К нам все придут.
- Вряд ли.
- А не придут - сами их нарожаем, новых. Какие чудеса делал Петр.
- Во имя Родины, - возразил я. Беседа с ним начала меня интересовать. Он говорил вовсе не так, как говорил бы рядовой матрос. Я с удивлением ловил в его спокойной речи и стройность оборотов, и привычную вежливость, и верный выбор необходимых слов.
- Да. Я отлично помню, - сказал он. - "А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога: жила бы только Россия. Ее слава и благоденствие". Может быть, я путаю немного текст. Во всяком случае, слова прекрасные и сказаны твердо, навеки. Но посудите сами, какую же непомерную тягу взвалил он на себя, чтобы чуть-чуть сдвинуть инертную, сонную Россию с мертвой точки. И притом один. Совсем один. Но ведь, поймите, товарищ, Петры Великие не повторяются, а вся сила русского Петра заключалась в том, что он был большевик, как были большевиками Иван Грозный, и Павел Первый, и Марат, и Наполеон, и Степан Разин. Большевизм - это не партия и не политическое убеждение. Это - вера и метод. От нас, большевиков, теперь, - если отвеять присосавшуюся к нам жадную сволочь, - триста тысяч человек, а скоро нас будет миллион. Петрова гигантская задача будет для нас детской игрой. Киндершпиль. Мы революционируем весь земной шар, создадим во всем единую коллективную власть, но власть не ради власти, а ради высокого счастья всех будущих человеческих поколений. При таком задании кто же будет плакать о разбитых горшках!
- Знаю, знаю, - возразил я нетерпеливо. - Старая шарманка. Коммуны, фаланстерия, одинаковая пища, одинаковое платье, а чтобы отличать женщин от мужчин, клейма М. и Ж. на спинах. Общие спальни. Надзор за человеческим приплодом. Все творчество в пении "Интернационала". Рай под заряженными ружьями. Господи, как надоели эти жалкие фантазии. Сто первый опыт производится над живым человеческим мясом. Да вы, прежде чем лезть устраивать всемирное счастье, восстановили бы свою собственную Родину, вдребезги растоптанную проклятой войной. И какое в самом деле глупое безумие было вызвать революцию во время войны. Какое преступление перед Родиной.
- Не сердитесь, - спокойно сказал матрос. - Вот вы все родина и родина. А скажите мне, что такое родина? Я этого совсем не понимаю.
- Да вы где сами-то родились?
В его голосе послышалась улыбка, когда он ответил:
- В России. По рождению чистокровный и чистопородный русак. Вот, ваша фамилия мне давно известна, позвольте же представиться и мне: Георгий Семенов-Ольшанский.
Я поглядел удивленно и недоверчиво на грязного матроса с фамилией, известной всей России. Но он продолжал с мягкой улыбкой:
- Нет, не думайте, что это псевдоним. Это моя самая настоящая, самая законная фамилия. И все-таки нет у меня никакого чувства родины. Говорят, она тянет к себе какой-то неземной силой. Нет. Приходилось побывать мне за границей, почти повсюду, и никогда я тяги этой не испытывал. И, пересекая пограничную черту, все равно в Эйдкунене, Вержболове или Границе, никаких теплых слез на глазах я не чувствовал. Но вам я не могу не верить и без всякой шутки прошу вас: объясните мне, что такое Родина?
- Родина? Она вот что... - сказал я и на минуту задумался. - Родина это первая испытанная ласка, первая сознательная мысль, осенившая голову, это запах воздуха деревьев, цветов и полей, первые игры, песни и танцы. Родина - это прелесть и тайна родного языка. Это последовательные впечатления бытия: детства, отрочества, юности, молодости и зрелости. Родина - как мать. Почему, смертельно раненный солдат, умирая, шепчет слово "мама", то самое имя, которое он произнес впервые в жизни. А почему так радостно и гордо делается на душе, когда наблюдаешь, понимаешь и чувствуешь, как твоя Родина постепенно здоровеет, богатеет и становится мощной. Нет. Я все-таки говорю не то, что нужно. Чувство Родины - оно необъяснимое. Оно - шестое чувство. Детские хрестоматии учили нас, что человек обладает пятью чувствами.
- Зрением, слухом, обонянием, осязанием и вкусом, - подсказал матрос.
- Так. Ну, а вот родина - это шестое чувство, и природа его так же необъяснима, как и природа первых пяти.
Матрос сказал искренно и с оттенком печали:
- Но вот, нет и нет у меня этого чувства. Вероятно, я уж так и появился на свет уродом, как бывают слепые и немые от рождения.
- А может быть, у вас просто притупилось это чувство от частых размышлений об "Интернационале".
- Может быть, - сказал он серьезно.
- А вот мы уже и пришли. Не хотите ли зайти к нам в дежурную. Граммофон послушайте.
- Ну, нет, эту машину я терпеть не могу и уже наслушался ее досыта. А вот не найдется ли у вас какой-нибудь книжки? Предчувствую, что долго не засну в эту ночь. Растревожил меня ваш следователь.
- Пожалуйста. У нас есть маленькая библиотечка. Книги очень хорошие: Маркс, Энгельс, Каутский...
- О, нет, спасибо. Эти сочинения не по мне. Слишком умно. Мне что-нибудь попроще.
- Так не могу же я вам предложить такую вещь, как Робинзон, например.
- Ах, голубчик, эту-то самую книжицу мне и надо. Какая прелесть. Я ее, пожалуй, лет уж десять не перечитывал.
Он уныло покачал своей сплюснутой головой.
- Что ж! Ваше дело. А то, право, взяли бы хоть Либкнехта. Он полегче будет. Ужасно мне обидно, товарищ К., что вы от нашего лагеря сторонитесь. Мимо какого великого дела проходите. Работали бы с нами заодно. И честь вам бы была и слава.
- Что поделаешь! Не могу. Этой самой родиной болен. Не по пути нам.
- Та-ак. Ну, входите в нашу хату. Милости просим.
Матросы сидели вокруг ревущего граммофона, курили и грызли подсолнухи. На мой полупоклон они кивнули головами и больше уже не обращали на меня внимания.
Из учтивости прослушал я со скукой несколько пластинок и хотел уже уходить, как поставили новый номер и из широкоразвернутой медной трубы полился стройный, тягучий, нежно-носовой, давно знакомый мне, но позабытый многоголосый мотив. Чем дальше развертывалась несложная, но захватывающая милая мелодия, тем ближе и слаще и знакомее она для меня становилась. Но вспомнить, где я ее слышал, мне все еще не удавалось.