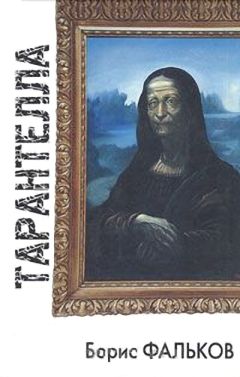Борис Фальков - Ёлка для Ба
У самого Ильи Борисовича было два сына. Старший, Борис, в начале века организовал отряд самообороны и, кажется, пристрелил лавочника-мясника, прожившего бок о бок с метизной лавкой двадцать лет и вдруг возглавившего толпу, явившуюся погромить соседа. По словам Ди, в этом случае слова "лавочник" не избегавшего, у его старшего брата был большой наган. Когда же занавес после конституционных праздников опустился, Борис нелегально перебрался в Бельгию, а после и в Америку. В конце тридцатых оттуда неожиданно приехала его тамошняя жена, к которой с тех пор прочно прилепилась кличка "американка". Она поселилась в Москве, сообщив, что Борис просто сошёл с ума, но уточнить диагноз отказалась. Впрочем, никто и не настаивал: даже Ди. Прадедушка, дождавшись этого известия, умер. А Ба вообще избегала вступать в отношения с американкой. Но и без уточнений все прекрасно понимали, что дело вовсе не обязательно касалось сумасшедшего дома, реплика американки могла означать, к примеру, что Борис стал есть свинину.
Кроме этой ненадёжной свидетельницы, не было никого, кто бы подтвердил, что Борис продолжает существовать в том же смысле, в каком существуют другие члены семьи: реально. Но несмотря на это - в жизни дома он продолжал играть значительную роль, верней, в этой жизни ему отводилось значительное место, как если бы он, совершенно бесплотный, мог вообще занимать какие-то места. Это делалось, наверное, на тот случай, когда б и он вдруг вернулся в эту жизнь, обрёл плоть и заявил претензии на отпущенный ему кусок пространства. Роль бесплотного Бориса выглядела неадекватно весомой, особенно в сравнении с абсолютно никакой ролью прадедушки, которого все эти годы до возвращения американки можно было видеть и, если захотеть, то и пощупать. Даже в сравнении с ролью самого Ди, его младшего брата. Что до косвенных свидетельств существования Бориса, пусть где-то там за горизонтом, пусть призрачного, но хоть какого-то его бытия - то ведь даже письма, приходившие поначалу из Бельгии, а потом и из Америки, прочитывались Ильёй Борисовичем в одиночестве и сразу после этого сжигались. Почему? И опять - умолчание, пауза. И попробуйте сказать, что это не выразительная пауза.
Здесь и я выразительно перевожу дыхание, чтобы не упустить ни капельки того умиления, с которым приступаю к самому Ди. Глава вторая, и третья, и всякая другая, включая последнюю: потому что я по-прежнему люблю тебя, Ди. Нет, не по-прежнему: больше, чем прежде, ведь я и сам стал больше, чуточку да вырос.
Возможно, о, вполне возможно, что все дарования Ди исчерпывались упорством и усидчивостью. Но кто скажет, что этого мало, глядя на то, какую работу делают эти природные качества в соединении с нажитым умением смиренно обожать свои кумиры? Ди с детства оттачивал это своё умение, смиренное обожание, а оселком, конечно же, послужил старший брат. Смирение одного и уверенное превосходство другого, на этом стояло всё равновесие дома и мира, а его никто не желал колебать и через сорок лет. Если и предпринимались когда-нибудь попытки нарушить это равновесие, то память о них давно похоронили в самых глубоких шкафах, в секретнейших ящиках душ сам Ди и, конечно, посвящённая в секрет Ба. Должное отношение к Борису оберегалось ими обоими подобно самому важному и самому хрупкому бюстику: ни одна пылинка, никакая сумеречная тень не должна была упасть на него. Этот бесплотный бюстик оставался непорочно белым, даже отец, любитель проверить на зуб репутацию какого-нибудь кумира, оставлял его в покое. Почему так? Вопрос, может быть, преждевременно коснулся другого секретного ящика, упрятанного в душе отца. Настолько секретного, что он и сам не подозревал о существовании этого ящика, как, впрочем, кажется - и о существовании самой души. Это сказано более туманно, чем можно бы, но туман ведь и существует для того, чтобы рассеиваться.
А может быть, исключительная, почти жениховская непорочность облика Бориса принуждала и отца отказываться от своих любимых привычек. Ведь принуждала же она бездушные предметы, самые гадкие из них, например, тот же наган, слово почти исключённое из лексикона Ди, или зауряднейший столовый нож, который он брал в руки с очевидной неприязнью, потому что считал такие предметы воплощением отвратительнейших человеческих свойств - прежде всего злобы, принуждала же она и эти мерзкие предметы к преображению, когда они являлись в связи с обожаемым старшим братом. Тогда и сами их названия звучали иначе, без обычного привкуса негодования: твёрдо и холодно, но уже не вполне чуждо.
Пусть исчезновение Бориса и ослабило чуточку смирение Ди, зато прибавило его обожанию торжественности, и тем укрепило его. С этим исчезновением смысл существования, сфокусированный в старшем брате, не только не потерял ценности, но и перенёсся на конкретные мелочи самой жизни, то есть, как бы неприятно ни звучало это слово, в быт. Ведь обожание Ди направлялось теперь не узким лучом снизу вверх в одну точку - но многими лучами и во все стороны света, так как перенеслось на старые вещи в доме, так или иначе связанные с отсутствующим кумиром. На вещи, в которых навсегда поселился его дух. Поскольку же в некоторых вещах трудно заподозрить присутствие какого-либо духа, а для реалиста-медика Ди такое подозрение в адрес мёртвой материи было, кажется, попросту невозможно, и поскольку направленное во все стороны обожание опасно распылялось, теряя необходимую концентрацию, то вскоре он перенёс всё своё внимание на одну вещь - но поистине королевскую среди всех вещей - и на ней снова сфокусировал лучи обожания: разумеется, на Ба. Нисколько не выйдя при этом за пределы, очерченные образом старшего брата. Да, и это сказано чуточку более туманно, чем следует. Но ведь многое прояснится уже скоро, может быть увы, слишком скоро.
Ясно, смиренное обожание брата, и после - Ба, так осмысливало существование Ди, что ему не приходилось задаваться вопросом о смысле жизни. Зачем бы это? Если он и без решения такой задачи знал, что представляет собой этот смысл. И не только знал: без особых усилий его имел. Нет, задача Ди была совсем другой, ему надлежало лишь не потерять давно найденный драгоценный смысл.
Ну, а сама по себе эта его жизнь... Что ж, ничего особенного: как у многих. Вместо того, чтобы стать раввином, как поначалу предполагалось, Ди закончил коммерческое училище и собирался пойти служить, если повезёт - в банк. Но новые выстрелы из наганов, соединившиеся с выстрелами винтовочными и пулемётными, открыли возможность поступить в университет. В марте семнадцатого Ди поехал в республиканский Петроград и там четыре месяца просидел на полуконспиративной квартире приятеля, скрываясь от мобилизации Керенского. За эти четыре месяца у него сложилось понимание того печального факта, что у семьи нет других надежд на будущее, кроме него: Борис, вместо того, чтобы вернуться в новую Россию, двинулся в противоположном направлении. Потому-то в некую белую ночь Ди потихоньку ускользнул из военной столицы на ещё тихий юг, в Крым. Там он и поступил в университет, просуществовавший ровно столько, сколько нужно было, чтобы Ди его окончил, сразу два факультета, математический и медицинский. Он положил себе два часа в сутки на сон, и сумел выполнить это условие. На жизнь зарабатывал уроками, лавка Ильи Борисовича уже не приносила доходов, а если и приносила, то в Симферополе от них было мало проку: между Крымом и лавкой пролёг фронт гражданской войны, и не один. Вот эти-то два нюанса - осознанная роль старшего в семье и вытекающая отсюда ответственность за существование других её членов - привели к тому, что Ди без колебаний выбрал из двух дипломов диплом врача. Должность учителя математики вряд ли бы прокормила его одного. И соответствующий документ навсегда улёгся в нижний ящик письменного стола, на самое дно, чтобы не смутить невзначай его хозяина ностальгией. Ди любил математику.
А медицину - вряд ли. Хотя те же качества, которые делали его именно Ди, а не кем-нибудь другим, сделали его и прекрасным педиатром. Несколько поколений детишек прошли через его кабинет и руки в родном городке, куда он, разумеется, вернулся. Он занял прочное место среди местных врачей, а скоро и первое. Он стал знаменитостью, и этим пользовались все члены его семьи, и я сам, когда мне хотелось в кино, звонил директору кинотеатра и просил оставить на наше имя, имя доктора, билет. Билет всегда ждал меня в кассе. Сами излеченные дети, вырастая, не забывали Ди. Неудивительно, ведь все они - корчащиеся от болей, агрессивные, депрессивные - умолкали, стоило ему лишь коснуться их пальцами, стоило ему только появиться на пороге кабинета. Умолкали и непременно выздоравливали. Потому что он обычно ограничивался естественными приёмами лечения: диетой, режимом, ну и уговорами - своим мягким низким голосом. Постоянный поток пациентов в домашнем кабинете давал семье твёрдую финансовую основу существования, а служба в туберкулёзном диспансере - приносила Ди ощущение социальной определённости, и, что не менее важно, относительной безопасности. Несмотря на то, что он был активным эсперантистом, аресты обошли его. Он даже написал на эсперанто роман о докторе Заменгофе и впоследствии издал его в журнале "Nuntempa Bulgaria". Он умер во время работы, составляя эсперантский идиоматический словарь. То есть, вводя в дистиллированное изобретение свод косвенных нечистых выражений - ферментов и бактерий, ввергающих всякий невинный, лабораторный, райский язык в брожение болезненной жизни и греховной истории. Он делал свою работу один, два десятка лет подряд, не находя себе поддержки ни в ком, разве что в праотце Адаме. И, возможно, пал жертвой этого божественного труда, как пали труженики из навязанной мне Изабеллой книжки "Охотники за микробами": безумцы и счастливцы, привившие себе чуму.