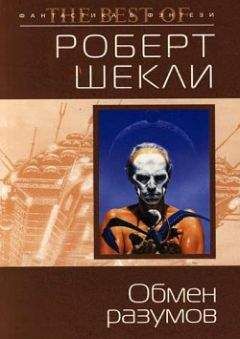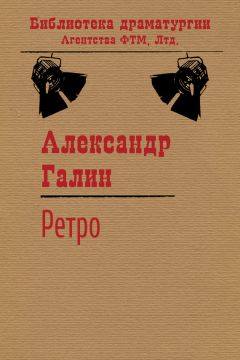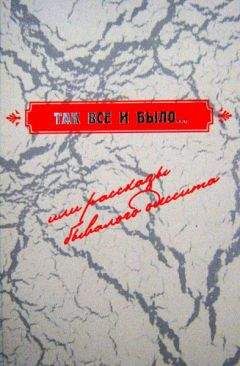Владимир Одоевский - Саламандра
Эльса уверилась наконец, что пред нею действительно Якко, и бросилась, рыдая, в его объятия. Они сели.
– Скажи же мне, Эльса, как живешь ты? Где живешь ты?
– Я живу здесь, в этой избе.
– Одна?
– Одна; да чего ж бояться? все здесь свои люди. Днем я хожу к пастору учиться грамоте – я уж умею читать, Якко, – потом выхожу на дорогу, играю на кантеле, пою – добрые люди дают мне хлеба – посмотри-ка, я сколько уж набрала его, на целый год. Тут есть даже кнакебре [7]. – Эльса с гордостью показала на ворох кусков, ею набранных. – Вечером прихожу сюда, вспоминаю об отце, о деде, о тебе, Якко, поплачу и лягу спать.
– Ну, Эльса, скажу тебе, теперь будет не то, – я теперь богат, и ты будешь жить богато…
– Что же ты нашел, Сампо, что ли?
– Почти так.
– Где же ты нашел его, Якко?
– У русских…
– Ах, и рутцы тебя не убили? – вскрикнула Эльса, не поняв своего собеседника…
– Не рутцы, а русские, Эльса, или, по-твоему, вейнелейсы.
– Так ты был в их земле?
– Я живу там и тебя повезу туда с собою…
– Зачем? Как можно? – вскричала с ужасом Эльса. – Ведь это так далеко, далеко от нас… Где же мы спать будем?..
– Там, в моей земле…
– Да здесь твоя земля, Якко… эта земля моя, мне сказал пастор, а стало быть, и твоя…
– Ты не понимаешь меня, милая Эльса; в России у меня есть дом, в шесть раз больше, нежели твоя избушка; там ты будешь ходить в пестром платье, каждый день есть чистый хлеб…
– Как это можно? – повторяла Эльса.
– Послушай! – наконец сказала она ему, – знаешь, что я выдумала; вместо того, чтоб мне с тобою ехать, ты привези сюда свое Сампо?..
– Это невозможно, Эльса.
– Отчего невозможно? Ты думаешь, что я не управлюсь; нет, я большая хозяйка; я умею коров доить, делать кислое молоко, даже кнакебре напеку на целый год; а если у тебя столько достанет богатства, то мы купим соли и насолим рыбы, то-то будет счастье.
Молодой человек покачал головою, улыбаясь:
– Все это невозможно, милая Эльса, я служу царю вейнелейсов, я должен ехать в его землю, а неужели ты меня покинешь?
– Как мне расстаться с тобою, Якко! Ни за что, ни за что. На мне уж многие хотели жениться, но я всем отказывала, я всем говорила, что один Якко будет моим мужем, и теперь говорю, как же мне расстаться с тобою? Но зачем тебе ехать, не понимаю; по крайней мере, будем ли мы приезжать домой?
– Мы будем, пожалуй, иногда приезжать сюда.
– Иногда, а как часто? Каждый день?..
– Невозможно.
– Ну, раз в неделю, в воскресенье, в церковь.
– И это невозможно, а разве раз в год.
Эльса не отвечала, но горько плакала.
Между тем невинное предложение Эльсы выйти за него замуж заставило молодого человека задуматься. Посмотрев пристальнее на Эльсу, он заметил, что, несмотря на ее странный наряд и на волоса, поднятые на маковку под безобразную шапочку, Эльса могла почесться красавицей; лицо ее было не совсем правильно, но имело невыразимую прелесть, особенно когда улыбалась; иногда ее голубые глаза беспрестанно перебегали от предмета к предмету, иногда оставались совсем неподвижными, и тогда в них отражалось то грустно-таинственное чувство, которое замечается лишь у женщин северного племени.
Странные мысли приходили в голову молодого человека; теперь он уже другими глазами смотрел на Эльсу; он воображал себе ее одетую в парадное платье, в его доме, в петербургской ассамблее, и сердце его билось сильно и порывисто; но с другой стороны, ему страшно казалось соединить навек судьбу свою с женщиною почти полудикою, которой язык не будет никому понятен, которая понимает в жизни лишь первые ее потребности; он воображал себе все огорчения, которым она будет подвергаться в обществе, для нее недоступном, все насмешки, которые будут преследовать ее безыскусственное простосердечие и совершенное незнание самых обыкновенных предметов. Он испугался мысли провести с нею три дня в одной повозке: самая невинность, самая непритворность ее чувств могли быть для них обоих гибельны.
– О чем ты задумался, милый Якко? – сказала ему Эльса, схватив его за лицо руками. – Ты, верно, раздумал и хочешь дома остаться, не так ли? – И с сими словами она, пока он еще не мог опомниться, горячо поцеловала его в губы. Невольная дрожь пробежала по членам молодого человека.
– Нет, Эльса, не то, – отвечал молодой человек, стараясь казаться хладнокровным. – Ты знаешь дорогу к пастору?
– Как же, и самую короткую, я все тропинки знаю…
– Поведи меня к нему.
– Пойдем, пойдем, но ты, я чай, голоден; есть не хочешь ли? – И с сими словами она подала ему лепешку из коры пополам с мукою…
Якко с отвращением и горестью посмотрел на эту странную пищу. – Нет, – сказал он, – я не хочу есть; пойдем поскорее к пастору.
И Эльса побежала, схватив Якко за руку и с аппетитом пригрызывая свою лепешку.
В пасторе Якко нашел человека доброго и образованного. Молодой человек объяснил ему странность своего положения, и пастор совершенно понял его.
– Я могу помочь вам, – сказал добрый старик, – жена моя отправляется сегодня в Ниеншанц, т. е. в Петербург, хотел я сказать; у ней есть место в одноколке, и ваша Эльса может с нею доехать в этом экипаже, пока еще не привыкла к лучшим.
Молодой человек, поблагодарив пастора за его одолжение, прибавил, что у него нет ничего, кроме кибитки, и должно признаться, сказал он: – что наши русские повозки вовсе не годятся на ваших горах.
Когда все было улажено к отъезду, пастор отвел молодого человека в сторону: "Я должен вас предостеречь, – сказал он, – вы везете Эльсу в чужую сторону; знайте, что она подвержена чему-то похожему на падучую болезнь; особенно удаляйте ее от огня и от лунного света: и то и другое, кажется, производит на нее вредное влияние; от того и от другого она приходит в какой-то сон и начинает говорить престранные речи. Простой народ считает ее колдуньей".
От этого рассказа Якко вздрогнул; он вспомнил забытое им до того гаданье старика и, несмотря на свою образованность, по духу времени, не мог выбить себе из головы, чтоб Эльса не была в самом деле околдована. Он не сообщил, однако же, своего замечания пастору, но дал себе слово не упускать из виду этого обстоятельства. Много стоило труда уговорить бедную Эльсу сесть в одноколку; она не хотела и ехать из родины, и не хотела быть не вместе с Якко, и не хотела не ехать. Она плакала навзрыд; почти без чувств усадили ее в повозку.
Якко с удивлением замечал во время дороги, что на Эльсу ничто не производило впечатления; ни любопытство, ни изумление не были доступны ее душе; одно в ней было заметно – страх при виде чужих и воспоминание о родимой избушке. Наконец повозка остановилась у петербургской заставы, – караульные солдаты разглядывали одноколку, отлично окрашенную красною краскою, засматривались и на наших дам.
– Вот, – толковали они, – и чухна в красной коробке приехала, – помоложе-то недурна, – хоть куда, – вишь какая смазливая…
Эльса испугалась, смотря на эти усатые лица, запаленные порохом, выглядывавшие из-под огромных шишаков. И пасторша струхнула, хотела что-то сказать солдатам, но немногие русские слова, которые она знала, мешались с финскими и немецкими.
– Что ты там лепечешь, чухонская ведьма? Или боишься, что сглазят? – сказал один из солдат, и вся толпа захохотала громким русским смехом.
В эту минуту Якко догнал наших путешественниц и подошел к одноколке. При виде человека в немецком кафтане и который притом говорил по-русски, – толпа разошлась.
– Куда ты завез меня? – говорила Эльса. – Какие люди здесь страшные! И говорить не умеют, а все что-то так страшно кричат!
Якко засмеялся замечаниям бедной Эльсы и старался ее утешить. Между тем пасторша поняла в разговоре русских только одно слово: "ведьма", потому что ей уже не раз случалось слышать его, она не замедлила рассказать Эльсе, что их бранили, и Эльса с простодушием спрашивала: по какому праву их бранят, когда они ничего дурного не сделали?
Якко шепнул слова два вышедшему на ту пору караульному офицеру; он прикрикнул, и Эльса видела, как страшные люди в шишаках вытянулись и сделались как окаменелые.
Все это казалось Эльсе и чудно, и страшно.
На первую минуту пасторша привезла Эльсу в дом своих родственников; Якко, поручив им заботу о ее костюме, отправился к Звереву, рассказал ему свое сиротство, как он призрен был отцом Эльсы, его печальную кончину, чудесное сохранение его дочери и просил именем благодарности и человеколюбия принять к себе в дом бедную девушку. Добрый Зверев, посоветовавшись с женою, согласился. И вот наша Эльса, боязливое, своенравное дитя природы – в фижмах, в полуроброне; ее учат держаться прямо, ходить тихо, не бросаться на шею Якко; она скована во всех движениях, не смеет поднять головы, не смеет пошевелиться, едва смеет курнычать свои печальные финские напевы.
Егор Петрович Зверев был человек русский, но полунемец или, лучше сказать, полуголландец. Он не получил большого образования, но долгое пребывание в Голландии сильно на него подействовало. Он сделался воплощенною аккуратностью: каждый день вставал в определенное время, надевал белый миткалевый халат, заплетал свою косичку, выкуривал трубку голландского канастера и принимался за дело, которое непременно оканчивал в определенный час, и каждый день проговаривал свою заветную фразу: «уже двенадцать часов за полдень – не пора ли обедать, Федосья Кузьминишна?» Он не постигал ничего, что делается в России, но делал и говорил то, а не другое только по той причине, что так следует. Дом его был бы как заведенная машина, если б не мешала ему немного жена его, Федосья Кузьминишна; она хотя также жила в Голландии и часто с какою-то гордостью рассказывала о том своим соседкам, но на нее голландский дух мало подействовал; она никак не могла понять, зачем каждый день надевать чистое белье; зачем в 8 часов, а не прежде и не после поливать цветные луковицы; почему каждую субботу надобно было мыть все полы, окошки и стены и натирать мебель воском, когда не ожидали гостей. От этого между супругами бывали стычки; увидя кресло не на прежнем месте, стол ненатертый, Егор Петрович говаривал жене шепотом, чтоб не слыхали домашние: «Не вашего ума это дело, Федосья Кузьминишна». А она отвечала также шепотом: «Что делать, глупешенька, мой батюшка, так век изжила, так и в могилку пойду». Никогда эти ссоры не выходили наружу; только домашние знали, что когда старики начинали говорить друг другу: вы, то значило, что между ними черная кошка пробежала.