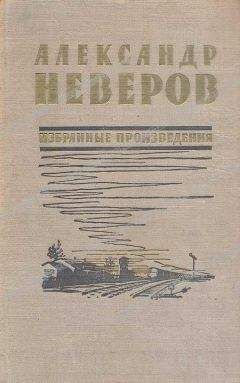Александр Неверов - Ташкент - город хлебный
Лизнул гайку языком два раза, неожиданно сказал:
— Мишка, давай кому достанется!
— Не надо мне.
— Ты думаешь — жалко?
Мишка вздохнул облегченно.
— Сознался чертенок! Все равно без меня никуда не уедешь.
Решили трясти два жеребья в Мишкином картузе: большую палочку и маленькую палочку. Сережка спохватился.
— Обманешь ты меня, давай по другому.
— Давай.
Поднял Мишка камешек, загадал.
— Я сожму два кулака. Возьмешь кулак с камешком — твоя гайка. Возьмешь кулак без камешка — моя гайка.
Долго раздумывал Сережка, который взять. Щурил глаза, отвертывался, даже помолился тихонько:
— Дай бог, мне досталась!
— Скорее бери!
— Левый!
Мишка причмокнул.
— Дурачек ты маленько приходишься! Я всегда в правой держу…
Вытащил Сережка гайку проигранную, еще больше захотелось есть. С ней сытнее было, а теперь все брюхо опорожнилось и во рту нехорошо.
Мишка хвалился.
— Какой я счастливый! Приеду домой, чего-нибудь сделаю из этой гайки или кузнецу продам за сто рублей.
Сережка настороженно поднял голову.
— Ну, за это — много больно!
— А что? она железная, куда хошь годится.
— Сто не дадут.
— Давай спорить на два куска!
Грустно стало Сережке. Прошли шагов двадцать, сказал он, чтобы утешиться:
— Продавай, я еще найду — чугунную…
10
За станцией дымились жарники. Пахло кипяченой водой, луком, картошкой, жженным навозом.
Тут варили, тут и "на двор" ходили.
Голые бабы со спущенными по брюхо рубахами, косматые и немытые, вытаскивали вшей из рубашечных рубцов. Давили ногтями, клали на горячие кирпичи, смотрели, как дуются они, обожженные. Мужики в расстегнутых штанах, наклонив головы над вывороченными ширинками, часто плевали на грязные окровавленные ногти. На глазах у всех с поднятой юбкой гнулась девка, страдающая поносом, морщилась от тяжелой натуги.
Укрыться было негде.
Из-под вагонов гнали.
Около уборной с двумя сиденьями стояла огромная очередь больше, чем у кипятильника. Вся луговина за станцией, все канавки с долинками залиты всплошную, измазаны, загажены, и люди в этой грязи отупели, завшивели, махнули рукой.
Приходили поезда, уходили.
Счастливые уезжали на буферах, на крышах.
Несчастливые бродили по станции целыми неделями, метались в бреду по ночам. Матери выли над голодными ребятами, голодные ребята грызли матерям тощие безмолочные груди.
Постояли Мишка с Сережкой около чужого жарника, начал Мишка золу разгребать тоненьким прутиком. Баба косматая пронзительно закричала:
— Уходите к чорту! Жулик на жулике шатается — силушки нет.
Мужик в наглухо застегнутом полушубке покосился на Мишку.
— Чего надо?
— Ничего не надо, своих ищем.
— Близко не подходи!
На вокзале в углу под скамейкой лежал татарченок с облезлой головой, громко выговаривал в каменной сырой тишине:
— Ой, алла! Ой, алла!
В другом углу, раскинув руки, валялся мужик вверх лицом с рыжей нечесанной бородой. В бороде на грязных волосках ползали крупные серые вши, будто муравьи в муравейнике. Глаза у мужика то открывались, то опять закрывались. Дергалась нога в распущенной портянке, другая — торчала неподвижно. На усах около мокрых ноздрей сидела большая зеленая муха с сизой головой.
Сережка спросил:
— Зачем он лежит?
Мишка не ответил.
Кусочек выпачканного хлеба около мужика приковал к себе неотразимой силой. Понял Мишка, что мужик умирает, подумал:
— Хорошо, если бы этот кусочек стащить! Народу нет, никто не видит. Татарченок вниз лицом лежит. И увидит — не догонит. Себе можно побольше, Сережке поменьше, потому что он и сам поменьше.
Прошелся Мишка от стены к стене, мельком в окно заглянул. Ноги вдруг ослабли от сладкого ощущенья первого воровства, лицо и уши стали горячими. Ощупал Сережку невидящими глазами. торопливо шепнул:
— Погляди вон там!
— Где?
— Там, за дверью.
Раз, два — готово!
Сережка из дверей спросил:
— Мишка, чего глядеть-то?
— Не гляди больше, не надо…
По платформе бежали мужики за начальником станции, христом-богом просили пустить их вперед.
— Товарищ-начальник, сделайте для нас такое уваженье настолько!
— Ждите, ждите, товарищи, не могу!
Побежал и Мишка вместе с мужиками.
Остановились мужики, и Мишка остановился, держа за руку непонимающего Сережку.
Мужики сняли шапки, снял и Мишка старый отцовский картуз. Дернул Сережку:
— Сними!
Не выгорело дело, мужики начали ругаться. Мишка тоже сказал, как большой:
— Взятки ждут…
После барыню увидели — голова с разными гребенками.
Такие попадались в Самаре, отец покойный называл их финтиклюшками. Стояла барыня на крылечке в зеленом вагоне, на пальцах — два кольца золотых. В одном ухе сережка блестит, и зубы не как у нас: тоже золотые. Рядом ребятишки смотрят ей в рот. Бросит мосолок барыня — ребятишки и драку. Упадут всей кучей и возятся, как лягушки склещенные. Потом опять выстроятся в ряд. Перекидала мосолки барыня, бросила хлебную корчонку.
Так и пришибла Мишку эдакая досада.
— Хлеб кидает, дура!
Поправил мешок, пошли в наступленье с Сережкой.
— Ты лови, и я буду ловить.
Росту Мишка невысокого, но здорово укряжистый. Весь в дядю Никанора, который на кулачки дрался лучше всех. Звизданет бывало по уху — сразу музыка по всей голове.
Увидала барыня мальчишку в широких лаптях, нарочно кинула кусочек побольше. Инда ноздри раздулись у Мишки. Двинул правым плечом — зараз двоих опрокинул, на третьего верхом сел. Придавил головой к земле, уцепился за шею, словно клещами.
Маленький расплющенный кусочек, вымазанный пылью, достался ему.
Не успел отдышаться, барыня еще кусочек кинула.
Так и подбросило Мишку невидимой силой.
— Сережка, хватай!
Но тут кривоногий мальчишка с большим брюхом ухитрился лучше всех. Сбил Сережку под ногу — прямо носом в землю. Вскочил Сережка, не видит ничего. Взмахнул обеими руками ударить — мимо. А кривоногий девченку отшвырнул в длинной рубахе, хорьком ощетинился на подскочившего Мишку. Двое других закричали:
— Дай ему, Ванька!
Поправил Мишка мешок за плечами, приподнял козырек, упавший на глаза.
— Дай!
— А, чай, боюсь тебя?
— Давай, давай, попробуй.
Тут барыня опять кусочек кинула.
И в это же время из окошка вагонного кто-то бумажку выкинул, свернутую пакетиком.
— Эх, чорт возьми!
Так бы и разорвался Мишка на две половинки, да никак этого сделать нельзя. Бросился за бумажкой.
— Чего-нибудь есть в ней!
Развернул дрожащими пальцами, а в бумажке — окурки папиросные.
— Тьфу, ведьмы, чтобы чирей сел!
Игра продолжалась долго.
То Мишка сшибал сразу двоих, то Мишку сшибали сразу двое.
Нахватал он больше всех, и стало ему не страшно.
Можа, еще найдется финтиклюшка. Пусть кидает, если не жалко. Только бы до Ташкента доехать, да зерна привести на посев фунтов пятнадцать, да хлеба кусками побольше.
Строгие хозяйские мысли укладывались складно, радовали сердце, а свой посев на будущую весну обволакивал Мишкины мысли ласковым, играющим теплом. Тощее, голодное тело ныло сладкой мужицкой истомой.
Сережка ничего не нахватал.
Схватил одну корочку, да и ту вырвал Ванька кривоногий с большим брюхом и щеку оцарапал ему большими собачьими ногтями.
Сели за станцией.
Пересчитал Мишка собранные корочки, сказал:
— Пять! Три мне, две тебе. Проглотил Сережка корочки, во рту еще хуже стало.
— Миша, дай маленько, я не наелся.
— Будет пока. Напьемся воды, ляжем спать.
— Вон эту крошечку дай.
— Которую?
— Вон — на коленке у тебя.
Мишка тоже не наелся. Пощупал кусок, украденный у мужика, и губы выпятил.
— Все дай, да дай! А ты когда будешь давать!
— Я тебе гайку дал.
— Она мне досталась.
Сережка примолк.
Вытащил Мишка из кармана выигранную гайку бросил под ноги.
— Ешь ее, если не хочешь дружиться.
— Оба долго молчали.
— Сколько кусков за тобой?
— Три.
— Как бы не так!
— А сколько же?
— Пересчитай — узнаешь. На дороге отдыхали, я давал тебе раз. На той станции, где садились. — два. Сейчас две корки отдал — стало четыре. Я не такой, как ты, лишнего не насчитаю.
Сережка заплакал:
— В кишках у меня мутит…
11
Ночью выпал дождь.
Завозился пустырь с мужиками да бабами, зашипели угли в жарниках, расплескалась сердитая ругань. Кто-то кричал в темноте:
— Бери чапан!
— Где чапан?
Целым стадом потащились на станцию, побежали под вагоны. Только баба, оставленная на пустыре, сердито ругалась: