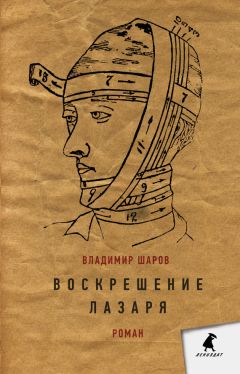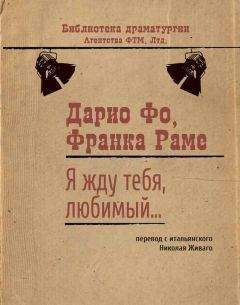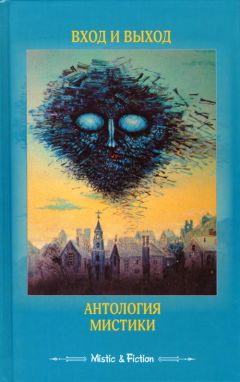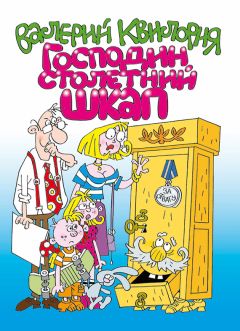Владимир Шаров - Воскрешение Лазаря
В другой раз, к тому времени я уже понимал, насколько далеко Ирина ушла, она сказала мне, что сначала плоть ее отца была редка и прозрачна, словно паутина, он был почти невесом. Она брала его на руки, и он был легче грудного младенца. Ей с ним все было страшно - вот так брать его, прижимать к себе, вообще касаться, потому что кожи или не было, или она была настолько тонка, что Иринины пальцы, как она их ни складывала, продавливали, проходили его чуть не насквозь. Она говорила мне, что и сейчас бывает, что ей страшно трогать отца, а это необходимо, и главное, хочется. Хочется прижать к груди, согреть, успокоить. Хочется, чтобы именно твое тепло его грело, а не тепло земли или буржуйки, или того же солнца. Им все время надо заниматься, смазывать раны, порезы, трупные пятна. Раньше язв было очень много, теперь меньше, но тоже есть.
"Понимаете, - объясняла она мне, - здесь куда больше страха, чем с собственным ребенком. Я, например, с моими тремя детьми вообще никогда ничего не боялась, ну, может быть, чуть-чуть, с первым, и то сразу после роддома. А так я себя чувствовала уверенно, мне и в голову не приходило, что вот он какой маленький, хрупкий, тронь я его чуть сильнее - и все, его не будет. Конечно, ко мне ходила хорошая патронажная сестра, без нее у моего первого ребенка было бы больше и опрелостей, и болячек, но я не сомневаюсь, что в одиночку тоже вырастила бы его и поставила на ноги. Мне с ним все было легко, потому что все доставляло наслаждение, и прижимать к своему телу, и гладить, и целовать. Спал он как сурок, значит, и я высыпалась, кроме того, я даже не слышала про мастит, и когда ребенок брал губами мой сосок, сначала один, потом второй, и сосал меня, сосал, до последней капли вытягивая молоко, я испытывала такое наслаждение, какое не многим мужчинам удавалось мне доставить. Может быть, и из-за этого мне с моими грудными детьми было просто. Понимаете, в них была сила, уверенность, редкая жажда жить, и я ничего не боялась.
С отцом же другое. Здесь тоже, конечно, есть большая радость, но и страх никогда не отпускает, вот и гуляет туда-сюда. Когда отец первый раз открыл глаза - сквозь веки он уже давно чувствовал свет, совсем по-детски морщился, если тот был чересчур ярким - он не сразу разглядел, что я, его родная дочь, сижу рядом. Долго так на меня смотрел, внимательно, все не мог поверить. Я еще раньше дала себе слово, что помогать ему не буду, и, как и он, молчала, ждала. Наконец он улыбнулся, и я поняла, что он узнал и сейчас мне обрадуется, но вместо этого отец вдруг испугался. Ясно, что тогда он еще не понимал, где он, похоже, думал, что и я умерла и мы на том свете встретились. Отец был человек очень совестливый, и, наверное, ему сделалось стыдно, получалось ведь, что он хотел, чтобы его дочь, его единственный ребенок, умер. Конечно, он был мне рад, любой будет рад, впервые за пятьдесят лет увидев рядом дочь, а с другой стороны, раньше он каждый день просил Бога, чтобы я жила, чтобы была счастлива и мне в моей жизни досталось столько хорошего, сколько это вообще возможно; отец тогда даже глаза закрыл, чтобы я не поняла, как он мне рад. Так, я думаю, у всех - радость есть, но они сразу спешат от нее отступить и откреститься".
Кстати, я не стал говорить Ирине, что у меня тут, на кладбище хранится целая пачка писем некоего Николая Кульбарсова. Вряд ли ты о нем слышала. И вот за два дня до этого разговора я в одном из них прочитал очень похожее, правда, речь шла там о другом времени и о других людях.
"Сектанты, - писал Николай Кульбарсов, - в зависимости от своего учения, сколько могли, умерщвляли собственную плоть, чтобы духа, чистоты, святости в них становилось больше, а их оболочки - этих вериг, которые тянут человека в грех, на дно, в ад - меньше.
Они ждали прихода Христа и начала нового мира. Для них это было связано не просто с отказом от прошлой жизни, а с отказом от тела, от плоти - главных хранителей грязи, греха, похоти, главных искусителей, не дающих человеку исправиться и начать жить праведно, в соответствии с Божьими заветами.
В революцию и гражданскую войну по этому пути пошла вся Россия. Пока сильные, бесстрашные герои - белые, не жалея ни своей, ни чужой крови, сражаются с сильными, бесстрашными героями - красными, в остальной России с каждым днем становится неизмеримо больше духа; он виден сквозь совсем разреженную плоть людей, которые едва-едва не умирают от голода, от тифа, от холеры.
Эти люди, если говорить об их плоти, бесконечно слабы, они томятся, никак не могут решить - жить им дальше или умереть. Их манят два таких похожих (из-за чего и труден выбор) светлых царства: одно привычное - рай, другое обещанное здесь, на земле - коммунизм. Люди колеблются: в общем, им все равно, их даже не волнует, воскреснут они только в духе или во плоти тоже, потому что большую часть пути в отказе от плоти и от своего тела они уже прошли, и о времени, когда именно плоть правила ими, вспоминают безо всякой нежности.
Мне кажется, что для большей части России очищение через страдание, через многолетний жесточайший голод, вынужденный пост, могло казаться и казалось тем, о чем люди веками молились, понимая, что по-иному спасение невозможно. В селах и городках я, встречаясь с разными людьми, боюсь пожимать им руки, вообще их касаться, до них дотрагиваться - так они слабы, плоть их настолько тонка и хрупка, что ненароком можно ее повредить, поранить.
И другое ощущение: какого-то невозможного стыда, ведь та самая душа человека, которая в обычное время спрятана за толстым и прочным слоем мяса, здесь почти обнажена, и ты стесняешься на это смотреть, стесняешься это видеть. Ты не можешь понять, есть ли у тебя вообще право ее видеть, потому что привык, что она должна быть открыта лишь высшей силе, и то - когда человек умер и его душа отлетела к Богу, предстала перед Его судом.
Все это страшное нарушение нормального хода жизни, ее правил, законов, порядка. Для человека, пришедшего из прошлой жизни, навыки, которые он оттуда принес, здесь абсолютно непригодны. Ты явно в стране людей, которые уже изготовились к смерти, которые ее совсем не боятся и совсем не ценят жизнь. И их долго, очень долго надо будет уговаривать жить, не умирать. Хотя бы попробовать жить.
Про жизнь они знают, что она есть страдание и мука, смерть же, наоборот, отдых и избавление. Они голодны, но мало ценят еду, потому что привыкли, что ее или вообще нет, или есть какие-то неимоверные крохи. Еду у них заменяет тепло. Все-таки тепло они ценят. Это и понятно: плоть редка, словно она из ситца, и люди всегда мерзнут. Но тепло их чаще не от еды, а от умирающих, сгорающих рядом в тифозном жару.
Те "пророки", которые агитируют, убеждают эту изготовившуюся к смерти страну жить, полны веры, и люди за ними, я знаю, в конце концов пойдут. Но не будут ли они снова обмануты?"
Ниже, Анюта, я тебе частью перешлю в оригинале, частью перескажу еще десятка полтора писем Кульбарсова. Ты, кстати, ни ему, ни Груберу, ни другим, о ком я буду писать, не удивляйся. Есть строчки: "Так в дереве, растущем вспять, сжимаются круги годов и можно семя угадать". Вот и я, чтобы ничего не упустить, стараюсь пока брать пошире.
Анюта, Ирина и позже не раз мне говорила, что, как и ее, мой отец будет все время сомневаться, не знать, стоит ли ему воскресать. Правильно ли, нужно ли начинать сначала? Я должен быть готов к его страху перед новой жизнью, к тому, что он будет отчаянно бояться, что здесь неверное, искусственное воскрешение, потому что оно человеческое, а не Божье, и когда придет срок, то, что ты сейчас делаешь, может помешать воскрешению настоящему. То есть ты все отдал, чтобы его спасти, ты носишь его на руках, промываешь, врачуешь эти его бесконечные и так отвратительно пахнущие трупные пятна, вытираешь, когда он ходит под себя, ухаживаешь за ним, как за больным ребенком, а в ответ каждый день видишь одно - его испуг, что твое воскрешение - ложное. И он боится слово сказать - вдруг ты бросишь, решишь: "Надоела мне вонь, грязь, в конце концов, разве я кому-нибудь что-нибудь должен, ведь мой отец к своему ездил на кладбище и то не всякий год. "Успокоить его, - говорила Ирина, - и к этому надо быть готовым, могут лишь две вещи: время и твоя любовь. Одна любовь может внушить отцу доверие, пробудить в нем желание жить. Понимание, что раз тут нет ничего, кроме любви, значит, бояться ему нечего".
Аня, есть еще одна тема, которая Ирину весьма занимает и по поводу которой она высказывается с удивительной для меня резкостью. Она говорит, что первые дни, месяцы, часто даже годы воскресший по своей слабости чистый младенец. Оставить одного его нельзя и на минуту. И вот есть опасность, что твой отец привыкнет к роли грудника, начнет ее любить, начнет хотеть, требовать, чтобы так было и дальше. В нем появится страшный детский эгоизм, сознание, что чем ты немощнее, тем на большую заботу вправе рассчитывать. Он может наотрез отказаться взрослеть, станет говорить, что никогда никого не просил его воскрешать, не ему это было надо, но уж коли воскресили, будьте добры без ропота выполнять то, чего от вас ждут.