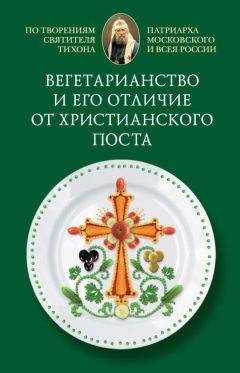Венедикт Ерофеев - Записки психопата
3 января
Вот видите — вам опять смешно.
Вы не верите, что можно вскармливать нарывом. А если бы вы имели счастье наблюдать, то убедились бы, что это даже достойно поощрения.
И сейчас я имею полное право смеяться над вами. Вы не видите, вы не внемлете моим гениальным догадкам — и не собираетесь раскаиваться.
А я созерцаю и раздраженно смиряюсь.
«Значит, так надо».
«Мало того — может быть, только потому-то грудь матери окружена ореолом святости и таинственности».
Ну, посудите сами, как это нелепо!
Я пытаюсь даже рассмеяться… И не могу. Меня непреодолимо тянет к ржанию — а я не умею придать смеющегося вида своей физиономии…
Я сразу догадываюсь — мороз, бездарный мороз. Мороз сковывает мне лицо и превращает улыбку в идиотское искривление губ.
Я воспроизвожу мысленно фотографию последнего номера «Московской правды»… обмороженные и тем не менее улыбающиеся физиономии… Проклинаю мороз и разуверяюсь в правдивости социалистической прессы.
Дальнейшее необъяснимо.
Ребенок обнажает зубы, всего-навсего — крохотные желтые зубы… Обнажение ли, крохотность или желтизна — но меня раздражает… Я моментально делаю вывод: «Этому тельцу нужна вилка. И не просто вилка, а вилка, исторгнутая из баклажанной икры».
Ребенок мотает головой. Он не согласен. Он кичится своей разочарованностью и игнорирует мою гениальность. И эта гнойная… эта гнойная — торжествует!
Я вынужден вспылить!
Как она смеет… эта опьяненная сперматозоидами и извергнувшая из своего влагалища кричащий сгусток кровавой блевоты…
Как она смеет не удивляться способности этого сгустка к наглому отрицанию!..
Но рука не подымается. Мне слишком холодно, и я парализован. Я сомневаюсь — достанет ли сил протереть глаза…
Можно и не сомневаться.
Я лежу и выпускаю дым. В атмосфере — запах баклажана. А в пасти хрипящего младенца все тот же сосок, увенчанный зеленым нарывом…
Сам! Сам встану!
Дневник
4 января — 27 января 1957 г.
Продолжение записок психопата. II
4 января
Встретив лицом к лицу, робко опустить голову и пройти мимо в трепетном восторге и смущении…
…проводить взглядом удаляющуюся фигуру — и, хихикнув, двинуться вослед…
…осторожно ступая, подкрасться — и нанести искросыпительный удар по невидимой сзади физиономии…
…не предпринимая никаких попыток к бегству, по-прежнему робко опустить голову и безропотно упиваться музыкой устного гнева…
…неутомимо льстить, лицемерить, петь славословия, свирепо раскачиваться, яростно извиняться, — пасть на колени и лобызать все что угодно…
…рабским взглядом поблагодарить за ниспосланное прощение и убедить в неповторимости происшедшего…
…на прощание — ласково солидаризироваться в вопросе о нерентабельности поэтической мысли…
…при возобновлении удаления — издалека нанести удар чем-нибудь тяжелым и тем самым обнажить отсутствие совести и способность на самые непредвиденные метаморфозы…
…и продолжая свой путь, заглушать тыловые всхлипывания и мстительные угрозы напевами из Грига.
5 января
Утром — окончательное возвращение к прошлому январю.
Тоска по 21-ому уже не реабилитируется. Нелабильный исход — не разочаровывает.
Даже по-муравьевски тщательное высушивание эмоций и нанизывание на страницы зеленых блокнотов — невозможно.
Высушивать нечего.
Впервые после 19-го марта — нечего.
Пусто.
7 января
Помните, Вл. Бр.? — Вы говорили:
«Ерофеевы — тля, разложение, цвет, гордость. О Гущиных не говорю… Мамаша эта твоя, Борис и сестры — просто видимость, Гущины, мамашин род… Эти просуществуют… А Ерофеевыми горжусь… Папаша в последние минуты всех посылал к ебеней матери… а тебя не упоминал вообще… Мать, наверное, говорила тебе?..
…Еще налить?
Двадцать лет в лагере — это внушительно… И Юрик прямо по его стопам… Водка и лагерь — ничего нового… Совершенно ничего нового… А это плохо… Скверно… Спроси у любого кировчанина — каждый тебе ответит: Юрий — рядовой хулиган, Бридкина наместник — и больше ничего… На тебя все возлагают надежды… Ты умнее их всех, из тебя выйдет многое… Я уверен, я еще не совсем тебя понимаю, но уверен…
А за университет не цепляйся… И не бойся, что в Кировске взбудоражатся, если что-нибудь о тебе услышат… Все равно — ты уже наделал шума с этими своими тасканиями, Тамара уже смирилась и мать — тоже…
И не бойся тюрьмы… Главное — не бойся тюрьмы… Тюрьма озверивает… А это — хорошо. Бандиты эти грубые, бесчувственные — но не скрывают этого… Искренние… А ваши эти университетские — то же самое, а пытаются сентиментальничать… Умных мало — а все умничают… Чувствовать умно надо, чувствовать не головой, но умно… А ваши эти все — холодные умники… Тебе с ними не по пути… Они просуществуют, как твои Гущины…
Они не хотят существовать просто так… Они в мечтах — мировые гении… И, мечтая, существуют… Я знаю этих типов, я сам учился в университете… и — знаю… Они чувствуют — когда есть свободное время… И даже сладострастничают — только внешне… Я — знаю…
Они могут доказать ненужность того, чего у них нет… и для них это признак ума… Главное для них — чистота… чистота своих чувствий… А их, этих чувствий, у большинства, почти у всех — немного — и содержать их в чистоте — нетрудно… Они, эти цивилизованные, будут ненавидеть тебя, говорю совершенно серьезно — ненавидеть! Все запоминай… и всем — мсти… Извини, что я, пьяный, учу тебя — вместо родителя… Ты — особенный, только на тебя и можно возлагать надежды… Главное — избегай всегда искренности с ними, — немного искренности — и ты прослывешь бездушным, грязным, сумасшедшим…
Ты! — бездушный и грязный! Хе-хе-хе-хе…
Налить еще, что ли?»
8 января
О! Слово найдено — рудимент! Рудимент!
9 января
Даже для самого себя — неожиданно:
Оскорбленный человек первый идет на примирение, а я не удостаиваю взглядом, спокойно перелистываю очередную страницу «Карамазовых» и — не подымая головы — лениво:
Катись к чорту.
И ничуть не смущает ответное скрежетание:
Ид-диот.
Все — спокойно, умеренно злобно, внешне — почти устало, без излишней мимики, а тем более — дрожи…
Удивительно, что спокойствие — не только внешнее…
По-прежнему шуршат «Карамазовы» — и никакого волнения.
10 января
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 января
Каюсь публично! — Пятого числа бессовестно лгал! И эти мои словечки — все ложь!!
И — никакой «пустоты»! Очередное кривляние — только и всего! И я вам докажу, что нет никакой «пустоты»! Докажу!! Сегодня же! Вечером!!
Прощайте!
12 января
Темно. Холодно. И завывает сирена.
Отец. Медленно поднимает седую голову из тарелки; физиономия — сморщенная, в усах — лапша, под столом — лужа блевоты. «Сыннок… Изввини меня… я так… Мать! А, мать! Куда спрятала пол-литра?…А? Кккаво спрашиваю, сстарая сука!! Где… пол-литра? Веньке стакан… а мне… не могу… Ттты! Ммать! Куда…»
Шамовский. Отодвигая стул. «Бросьте, Юрий Васильевич, это вам не идет!.. Хоть жены-то постесняйтесь… ведите себя прилично…» Встает, длинный, изломанный, с черной шевелюрой… делает два шага — и падает на помойное ведро…
Харченко. Нина. Лежит в красном снегу, судорожно извивается. «И-ирроды! За что!.. В старуху… Тюррре-э-эмни-ки-и!.. Тюре-е…»
Юрий. Невозмутимо. «Пап, заткни ей глотку».
Ворошнин. Вскакивая. «Не позволю! Не позволю! Без меня никто работать не будет! Директора убью! Сам повешусь!! А не позволю!.. Боже мой… Сил моих нет!.. Все, все — к ебеней матери!»
Викторов. Совершенно пьяный. Кончает исповедываться, хватает вилку и, упав на стол, протыкает себе глаз.
Бридкин. Недовольно поворачивая оплывшую физиономию. «А-а-а… опять… москвич… Ну-ну… Ты слышал про Шамовского? Нет?.. Вчера ночью… застрелился… И мне за него стыдно, не знаю — почему, а стыдно… Садись, я заплачу… Эй! Ты! Толстожопая! Еще триста грамм… Застре-лил-ся… Никого не предупреждал, кроме сына… Это — хорошо…»
Юрий. Прохаживается взад и вперед. Пинает все, что попадается под ногу. Взгляд тупой. «Тюрьма все-таки лучше армии. Народ веселый… Вчера в дробильном цехе работали, двоим начисто головы срезало под бункером, все смеялись… и я тоже. Бригадир споил, ни хуя не понимали, я даже ничего не помню… Я вообще пьяный ничего не помню… и не соображаю… делаю, что в голову придет… забываю вот только вешаться… пришла бы в голову мысль обязательно бы повесился. Это, говорят, интересно, — вешаться в пьяном виде, один у нас хуй вешался, рассказывал — как интересный сон, говорит…»