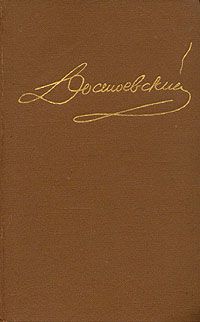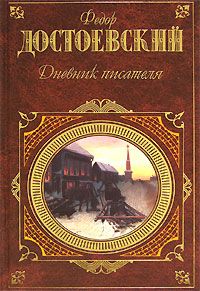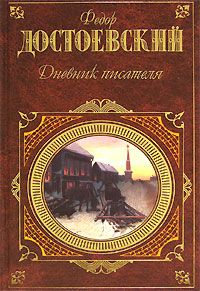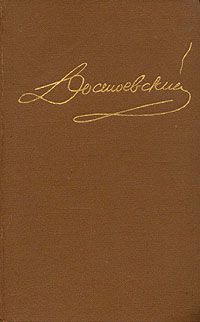Федор Достоевский - Том 15. Дневник писателя 1877, 1980, 1981
Что-то ты делаешь теперь? С <Иваном> Николаев<ичем> ты искреннее, чем со мною; <ты сказал>[2] ему, что завален работой и не <имеешь> времени; да, твоя служба чертовская, <что> делать; избавляйся от нее скорее.
Что мне сказать тебе о себе… Давно я не говорил с тобою искренно. Не знаю, нахожусь ли я и теперь в духе, чтобы говорить с тобою об этом. Не знаю, но теперь гораздо чаще смотрю на меня окружающее с совершенным бесчувствием. Зато сильнее бывает со мною и пробуждение. Одна моя цель быть на свободе. Для нее я всем жертвую. Но часто, часто думаю я, что доставит мне свобода… Что буду я один в толпе незнакомой? Я сумею развязать со всем этим; но, признаюсь, надо сильную веру в будущее, крепкое сознанье в себе, чтобы жить моими настоящими надеждами; но что же? всё равно, сбудутся ли они или не сбудутся; я свое сделаю. Благословляю минуты, в которые я мирюсь с настоящим (а эти минуты чаще стали посещать меня теперь). В эти минуты яснее <сознаю свое> положение, и я уверен, <что эти> святые надежды сбудутся.
<…ду>х не спокоен теперь; но в этой <борьбе> духа созревают обыкновенно характеры <сил>ьные; туманный взор яснеет, а вера в жизнь получает источник более чистый и возвышенный. Душа моя недоступна прежним бурным порывам. Всё в ней тихо, как в сердце человека, затаившего глубокую тайну; учиться, «что значит человек и жизнь», — в этом довольно успеваю я; учить характеры могу из писателей, с которыми лучшая часть жизни моей протекает свободно и радостно; более ничего не скажу о себе. Я в себе уверен. Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком. Прощай. Твой друг и брат
Ф. Достоевский.
<…> любимыми идеями каждую минуту <…> мечтах и думах жизнь незаметнее. Еще одно <…>: я могу любить и быть другом. Я недавно <…>. Как много святого и великого, чистого <…> этом свете. Моисей и Шекспир{52} всё <…> <толь>ко вполовину.
Любовь, любовь! Ты говоришь, что ты рвешь цветы ее. Мне кажется, что нет святее самоотверженника, как поэт. Как можно делиться своим восторгом с бумагой. Душа всегда затаит более, нежели сколько может выразить в словах, красках или звуках. Оттого трудно исполнить идею творчества.
Когда любовь связывает два сердца. От <…> и подавно не показывает слез своих <…> только в груди. Плакать может од<ин> <…> надобно иметь гордость и веру христ<ианскую> <…> ты что-нибудь о М<нрзб>.
Ежели через неделю, считая с теперешнего числа, не получу ответа, то заключаю, что ты в Москве, и пишу к тебе на имя Куманиных. Напиши мне, брат, подробно, как ты управился или как другие управились со всем этим. Жду нетерпеливо ответа. Теперь, мой милый, остановки не будет в нашей переписке. Скоро пришлю тебе реестр книг. Пиши. Теперь некогда.
11. А. А. и А. Ф. КУМАНИНЫМ
25 декабря 1839. Петербург
С.-Петербург. Декабря 25-го дня 1839 года.
Милостивый государь любезнейший дяденька,
милостивая государыня любезнейшая тетенька!
Продолжительное, ничем не оправдываемое и не извиняемое молчанье мое могло показаться Вам, любезнейшие дяденька и тетенька, странным, непонятным, непростительным, грубостию против Вас и, наконец, черною неблагодарностию. Беру перо, но не для того, чтобы оправдываться: нет! я знаю, что вина моя, какие бы обстоятельства ни извиняли ее, далеко ниже оправданий. Да и могу ли еще надеяться, что мои оправданья будут приняты? Скажу одно: если искреннее, откровенное признанье мое, попытка объяснить мой проступок пред Вами, удостоится хотя немногого вниманья Вашего, то я почту себя счастливым; ибо возвращу то, чего не надеялся возвратить, — хотя малейшее вниманье и расположенье Ваше ко мне{53}.
Поступив в Гл<авное> ин<женерное> уч<илище>, занятия, новость и разнообразие нового рода жизни — все это развлекло меня на несколько времени — и вот единственная эпоха, в которую совесть тяжко упрекает меня за забвенье моих обязанностей, в моем тяжком проступке перед Вами, в моем молчанье; нечем объяснить его! Нет для него оправданий! Разве кроме моей странной рассеянности?..
Знаю, что это признанье в рассеянности много унижает меня в глазах Ваших; но я должен снести и снесу стыд свой, ибо я заслужил его. Напоминанья и приказанья покойного родителя моего прервать мое странное молчанье с теми из родственников, которые столь часто осыпали нас благодеяниями, заставили меня вникнуть в проступок мой, и я увидал себя в самом невыгодном свете в отношенье к Вам, любезнейшие дяденька и тетенька. Кроме тяжкой вины моей — рассеянности, я увидел, что мой проступок может принять вид более мрачный, вид грубости, неблагодарности… Это привело меня в замешательство, смущенье…
Разумеется, это смущенье должно было недолго продолжаться; исправить вину мою было первым делом, первою мыслию моею; но одна мысль, что я нарушил первейшие обязанности мои, что я не исполнил моего долга, положенного на меня самою природою, эта мысль уничтожила меня. Я не держался правила многих, что бумага не краснеет и что два-три пошлых извиненья (в неименье времени и т. п.) будут достаточны для поправленья ошибки, я краснел заочно, досадовал на себя, не знал что, как и с каким видом буду писать к Вам; я брал перо и бросал его, не докончив письма моего. Я молю, заклинаю Вас, любезнейшие дяденька и тетенька, верить этому; это чистые излиянья раскающегося сердца; это смущенье и тягостное положенье моего к Вам было причиною моего столь долгого молчанья.
Горестная смерть отца моего и благодеянья, Вами оказанные семейству нашему{54}, благодеянья, за которые даже не знаю как научиться быть благодарным Вам, это возбудило во мне чувства, которые возбудили во мне в большей степени всё прежнее, — и чувства стыда, и муки раскаянья. Чувствую вину мою; не смею надеяться на прощенье; но величайшею милостию для меня было бы, если бы Вы позволили мне писать к Вам или хоть к сестре моей, от которой я бы мог узнавать о всем том, что дорого сердцу моему; новый год, которого я встречаю желаньем блага и счастья Вам, любезнейшие дяденька и тетенька, новый год будет свидетелем моего исправленья.
Постараюсь в продолженье его заслужить вниманье Ваше изъявленьем искренней привязанности моей к Вам, моею благодарностию к благодеяниям Вашим нашему семейству и постоянным сохраненьем того священного чувства любви, почтенья и преданности, с которыми честь имею пребыть покорным и преданным племянником
Ф. Достоевский.
12. M. M. ДОСТОЕВСКОМУ
1 января 1840. Петербург
С.-Петербург. 1840 года. Генваря 1-го дня.
Благодарю тебя от души, добрый брат мой, за твое милое письмо. Нет! я не таков, как ты; ты не поверишь, как сладостный трепет сердца ощущаю я, когда приносят мне письмо от тебя; и я изобрел для себя нового рода наслажденье — престранное — томить себя.
Возьму твое письмо, перевертываю несколько минут в руках, щупаю его, полновесно ли оно, и, насмотревшись, налюбовавшись на запечатанный конверт, кладу в карман… Ты не поверишь, что за сладострастное состоянье души, чувств и сердца! И таким образом жду иногда с 1/4 часа; наконец с жадностию нападаю на пакет, рву печать и пожираю твои строки, твои милые строки. О, чего не перечувствует сердце, читая их! Сколько ощущений толпятся в душе, и милых и неприятных, и сладких и горьких; да! брат милый, — и неприятных, и горьких; ты не поверишь, как горько, когда не разберут, не поймут тебя, поставят всё совершенно в другом виде; совершенно не так, как хотел сказать, но в другом, безобразном виде… Прочитав твое последнее письмо, я был un enragé[3], потому что не был с тобою вместе: лучшие из мечтаний сердца, священнейшие из правил, данных мне опытом, тяжким, многотрудным опытом, исковерканы, изуродованы, выставлены в прежалком виде. Сам ты пишешь ко мне: «Пиши, возражай, спорь со мною» — и находишь в этом какую-то пользу! Никакой, милый брат мой, решительно никакой; только то, что твой эгоизм (который есть у всех нас грешных) выведет превыгодное заключенье о другом, о его мненьях, правилах, характере и скудоумии… Ведь это преобидно, брат! Нет! Полемика в дружеских письмах — подслащенный яд. Что-то будет, когда мы увидимся с тобою? Это будет, кажется, всегдашним предлогом раздора между нами… Но оставляю это! об этом еще можно поговорить на последних страницах.
Военная академия — c’est du sublime![4] Знаешь ли, что это преблистательный проект (?!) Я много думаю о судьбе твоей, чтобы согласить ее с нашими обстоятельствами, и сам остановился на Военной академии; но ты предупредил меня; след<овательно>, и тебе это нравится… Но вот что: ведь надо прослужить по крайней мере год, пред вступлением в Военную акад<емию>; останься при чертежной на этот год.