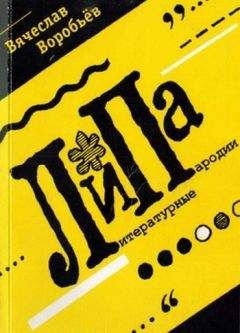Владимир Набоков - Под знаком незаконнорожденных
Он вышел из комнаты, не глядя на нее, сунулся было в другой чулан, но передумал, повернулся на каблуках и, подходя к детской, машинально приподнялся на цыпочки. Здесь у белой двери он остановился и тяжкий шум его сердца внезапно прервался особым спальным голосом сына, отстраненным и вежливым, Давид с грациозной точностью применял его для извещенья родителей (когда они возвращались, скажем, с обеда в городе), что он еще бодрствует и готов принять всякого, кто пожелает вторично сказать ему доброй ночи.
Это было неизбежно. Всего только четверть одиннадцатого. А мне казалось, что ночь почти на исходе. На секунду закрыв глаза, Круг вошел.
Он различил быстрый, смазанный взмах одеяла; щелкнул выключатель постельной лампы, и мальчик сел, прикрывая рукой глаза. В этом возрасте (восемь лет) о ребенке невозможно сказать, что он улыбается так или этак. Улыбка не привязана к определенному месту, она сквозит во всем его существе, — если ребенок счастлив, конечно. Этот ребенок все еще был счастлив. Круг произнес обычные фразы — о времени и о сне. Он не успел договорить, как со дна груди рванулись на приступ грубые слезы, кинулись к горлу и, отброшенные закрепившимися ниже силами, затаились, выжидая, маневрируя в темных глубинах, готовясь к новой атаке. Pouvru qu'il ne pose pas la question atroce. Молю тебя, о здешнее божество.
— В тебя стреляли? — спросил Давид.
— Что за глупости, — сказал он. — По ночам никто не стреляет.
— Еще как стреляют. Я слышал, как бахало. Смотри, новый способ носить пижаму.
Он проворно вскочил, раскинул руки, балансируя на маленькой, словно припудренной, в голубых прожилках ноге, по-обезьяньи вцепившейся в простыню, скомканную на ямчатом, покрякивающем матраце. Голубые штанишки, бледно-зеленая куртка (она что, дальтоничка?).
— Правильную я в ванну уронил, — весело пояснил он.
Внезапно, увлекшись возможностями, скрытыми в подъемной силе, он подскочил, помогая себе отрывистыми хлопками, — раз, другой, третий, выше, выше, — и, головокружительно зависнув, упал на колени, кувырнулся и снова встал на встрепанной постели, раскачиваясь, шатаясь.
— Ложись, ложись, — сказал Круг, — уже очень поздно. Мне нужно идти. Ну же, ложись. Скорее.
(Он может и не спросить.)
На этот раз он упал на попку и, неловко повозив скрюченными ногами, просунул их между одеялом и простыней, рассмеялся, всунул их, наконец, как надо, и Круг поспешно подоткнул одеяло.
— А как же сказка сегодня? — сказал Давид, вытягиваясь, взметая длинные ресницы, закидывая руки назад и складывая их на подушку, как крылья, по сторонам головы.
— Завтра будет двойная.
Склоняясь над сыном, Круг на мгновенье застыл на расстоянии протянутой руки, они смотрели в глаза друг другу: мальчик, торопливо придумывая, что бы такое спросить, чтобы выиграть время, отец, исступленно молясь, чтобы не был задан один, определенный вопрос. Сколь нежной кажется кожа в ее ночной благодати, с легчайшим фиалковым тоном чуть выше глаз и золотистым пушком на лбу под густой, спутанной бахромой золоторусых волос. Совершенство нечеловечьих тварей — птиц, молодых собак, спящих бабочек, жеребят — и этих мелких млекопитающих. Сочетание трех коричневых точек, родинок у носа, на слегка разрумянившейся щеке напомнило ему какое-то иное сочетание, которое он увидел, потрогал, впитал совсем недавно, — что это было? Парапет.
Он, торопясь, поцеловал их, выключил свет и вышел. Слава Богу, не спросил. Но когда он тихо выпустил ручку, вот тогда, высоким голоском, внезапно вспомнив.
— Скоро, — ответил он. — Как только ей разрешит доктор. Спи. Умоляю тебя.
По крайности, милосердная дверь была между нами.
В столовой на стуле рядом с буфетом сидела Клодина, с вожделением рыдая в бумажную салфетку. Круг принялся за еду, быстро расправился с ней, живо орудуя ненужными солью и перцем, откашливаясь, передвигая тарелки, роняя вилку и ловя ее подъемом ноги, а она все рыдала с короткими перерывами.
— Пожалуйста, идите к себе в комнату, — сказал он наконец. — Мальчик не спит. Постучите мне завтра в семь. Господин Эмбер, вероятно, займется завтра приготовлениями. Я уеду с ребенком как можно раньше.
— Но все это так неожиданно, — простонала она. — Вы же вчера говорили... О, это не должно было случиться вот так!
— И я вам шею сверну, — добавил Круг, — если ребенок услышит от вас хотя бы одно слово.
Он оттолкнул тарелку, прошел в кабинет, запер дверь.
Эмбера может не быть. Телефон может не работать. Но по ощущенью в руке от поднятой трубки он уже знал, что преданный аппарат жив. Никак не могу запомнить эмберов номер. Здесь, на спине телефонной книги мы наспех писали цифры и имена, наши почерки смешивались, скашиваясь и изгибаясь в разные стороны. Ее вогнутости в точности соответствуют моим выпуклостям. Удивительно, — я способен различить тень ресниц на детской щеке и не могу разобрать собственного почерка. Он отыскал запасные очки, потом знакомый номер с шестеркой посередине, похожей на персидский нос Эмбера, и Эмбер отложил перо, вынул из плотно сомкнутых губ длинный янтарный мундштук и услышал.
"Я добрался до середины этого письма, когда позвонил Круг и сообщил мне ужасную новость. Бедной Ольги нет больше. Она умерла сегодня после операции почек. В прошлый вторник я навестил ее в больнице, она была как всегда прелестна и так обрадовалась действительно дивным орхидеям, которые я принес; никаких признаков серьезной опасности не было, или же, если они и были, доктора ему не сказали. Я зарегистрировал удар, но не в состоянии пока анализировать его последствия. Видимо, мне предстоит ряд бессонных ночей. Собственные мои беды, все эти мелкие театральные козни, которые я только что описал, боюсь, покажутся Вам такими же пустяками, какими теперь они кажутся мне.
Сначала у меня мелькнула непростительная мысль, что он разрешился чудовищной шуткой, как в тот раз, когда задом наперед прочитал лекцию о пространстве, желая узнать, прореагирует ли хоть как-то хотя бы один из студентов. Никто не прореагировал, как в первую минуту не прореагировал и я. Вы, вероятно, свидитесь с ним раньше, чем получите это путанное послание: завтра он едет на Озера вместе с несчастным мальчиком. Это мудрое решение. Будущее не очень внятно, но я полагаю, что Университет в скором времени возобновит работу, хотя никто, конечно, не знает, какие неожиданные перемены могут случиться. Последнее время тут ходили кой-какие зловещие слухи; единственная газета, которую я читаю, уже две недели как не выходит. Он попросил меня заняться завтра кремацией, и я гадаю, что подумают люди, когда его на ней не окажется; но, разумеется, его отношение к смерти не позволяет ему присутствовать на церемонии, хоть она и будет настолько формальной и краткой, насколько мне это удастся, — если только не встрянет семейство Ольги. Несчастный человек, — она была блестящей помощницей в его блестящей карьере. В нормальные времена я, верно, снабжал бы сейчас ее портретами американских газетчиков."
Эмбер опять отложил перо, посидел, затерявшись в мыслях. Он тоже участвовал в этой блестящей карьере. Неприметный филолог, переводчик Шекспира, в зеленой и влажной стране которого прошла его студенческая юность, он неловко и простодушно вышел к рампе, когда издатель попросил его применить обратный процесс к "Komparatiwn Stuhdar en Sophistat tuen pekrekh", или, как более хлестко называлось американское издание, к "Философии греха" (запрещенной в четырех штатах и ставшей бестселлером в прочих). Странный фокус произвел случай, — этот шедевр эзотерической мысли мгновенно пришелся по сердцу читателю среднего класса и целый сезон спорил за высшие почести с грубоватой сатирой "Прямой слив", а в следующем году — с романтическим повествованием Елизаветы Дюшарм о Юге "Когда поезд проходит" и еще двадцать девять дней (год выпал високосный) — с нареченным книжных клубов, с "По городам и деревням", а потом еще два года — с замечательной помесью святой облатки и петушка на палочке, с "Аннунциатой" Луиса Зонтага, так чинно начавшейся в пещерах святого Варфоломея и закончившейся хаханьками.
Первое время Круг, хоть он и прикидывался довольным, весьма раздражался всей этой историей, а Эмбер конфузился, пытался оправдываться и втайне гадал, не содержит ли личная его разновидность сочного, синтетического английского языка какой-то диковинной примеси, дрянной добавочной пряности, которая могла отвечать за это нежданное возбуждение; но с проницательностью, много превосходившей ту, что проявили двое ученых мужей, Ольга приготовлялась к грядущим годам наслаждения успехом книги, самую соль которой она понимала лучше, чем эфемерные рецензенты. Это она заставила впавшего в панику Эмбера склонить Круга отправиться в лекционное турне по Америке, как бы предвидя, что шумные его отголоски обеспечат Кругу на родине такое почтение, какого труд его, оставаясь облаченным в национальный костюм, никогда бы не смог ни исторгнуть из академической флегмы, ни внушить коматозной массе аморфных читателей. Да и сама поездка не разочаровала его. Ни в коей мере. И пусть Круг оставался, как и всегда, прижимистым и, не разбазаривая в пустых разговорах впечатлений, могущих впоследствии претерпеть непредсказуемые метаморфозы (если позволить им тихо окукливаться в аллювиальных отложениях мозга), мало говорил о турне, Ольга сумела полностью воссоздать его и с ликованием преподнести Эмберу, который смутно ожидал разлива саркастического отвращения. "Отвращения? — воскликнула Ольга. — Еще чего, этого ему и тут хватало. Отвращения, надо же! Восторг, наслаждение, оживление воображения, дезинфекция мозга, togliwn ochnat divodiv [ежедневный сюрприз пробуждения]!"