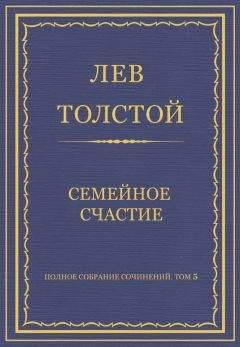Лев Толстой - Семейное счастие
Но в то же время мне захотелось посмотреть, что он там делает, как смотрит, как движется, полагая, что его никто не видит. Да просто мне в это время ни на минуту не хотелось терять его из виду. Я на цыпочках по крапиве обежала сарай с другой стороны, где было ниже, и, встав на пустую кадку, так что стена мне приходилась ниже груди, перегнулась в сарай. Я окинула глазами внутренность сарая с его старыми изогнутыми деревьями и с зубчатыми широкими листьями, из-за которых тяжело и прямо висели черные сочные ягоды, и, подсунув голову под сетку, из-под корявого сука старой вишни увидала Сергея Михайлыча. Он, верно, думал, что я ушла, что никто его не видит. Сняв шляпу и закрыв глаза, он сидел на развилине старой вишни и старательно скатывал в шарик кусок вишневого клею. Вдруг он пожал плечами, открыл глаза и, проговорив что-то, улыбнулся. Так не похоже на него было это слово и эта улыбка, что мне совестно стало за то, что я подсматриваю его. Мне показалось, что слово это было: Маша! "Не может быть", - думала я. - Милая Маша! - повторил он уже тише и еще нежнее. Но я уже явственно слышала эти два слова. Сердце забилось у меня так сильно, и такая волнующая, как будто запрещенная радость вдруг обхватила меня, что я ухватилась руками за стену, чтобы не упасть и не выдать себя. Он услыхал мое движение, испуганно оглянулся и, вдруг опустив глаза, покраснел, побагровел, как ребенок. Он хотел сказать мне что-то, но не мог, и еще, и еще так и вспыхивало его лицо. Однако он улыбнулся, глядя на меня. Я улыбнулась тоже. Все лицо его просияло радостью. Это был уже не старый дядя, ласкающий и поучающий меня, это был равный мне человек, который любил и боялся меня, и которого я боялась и любила. Мы ничего не говорили и только глядели друг на друга. Но вдруг он нахмурился, улыбка и блеск в глазах его исчезли, и он холодно, опять отечески обратился ко мне, как будто мы делали что-нибудь дурное и как будто он опомнился и мне советовал опомниться.
- Однако слезайте, ушибетесь, - сказал он. - Да поправьте волосы; посмотрите, на что вы похожи.
"Зачем он притворяется? зачем хочет мне делать больно?" - с досадой подумала я. И в ту же минуту мне пришло непреодолимое желание еще раз смутить его и испытать на нем мою силу.
- Нет, я хочу сама рвать, - сказала я и, схватившись руками за ближайший сук, ногами вскочила на стену. Он не успел поддержать меня, как я уж соскочила в сарай на землю.
- Какие вы глупости делаете! - проговорил он, снова краснея и под видом досады стараясь скрыть свое смущение. - Ведь вы могли ушибиться. И как вы выйдете отсюда?
Он был смущен еще больше, чем прежде, но теперь это смущение уже не обрадовало, а испугало меня. Оно сообщилось мне, я покраснела и, избегая его взгляда и не зная, что говорить, стала рвать ягоды, которых класть мне было некуда. Я упрекала себя, я раскаивалась, я боялась, и мне казалось, что я навеки погубила себя в его глазах этим поступком. Мы оба молчали, и обоим было тяжело. Соня, прибежавшая с ключом, вывела нас из этого тяжелого положения. Долго после этого мы ничего не говорили друг с другом, и оба обращались к Соне. Когда мы вернулись к Кате, которая уверяла нас, что не спала, а все слышала, я успокоилась, и он снова старался попасть в свой покровительственный отеческий тон, но тон этот уже не удавался ему и не обманывал меня. Мне живо вспомнился теперь разговор, бывший несколько дней тому назад между нами.
Катя говорила о том, как легче мужчине любить и выражать любовь, чем женщине.
- Мужчина может сказать, что он любит, а женщина - нет, - говорила она.
- А мне кажется, что и мужчина не должен и не может говорить, что он любит, - сказал он.
- Отчего? - спросила я.
- Оттого, что всегда это будет ложь. Что такое за открытие, что человек любит? Как будто, как только он это скажет, что-то защелкнется, хлоп - любит. Как будто, как только он произнесет это слово, что-то должно произойти необыкновенное, знамения какие-нибудь, из всех пушек сразу выпалят. Мне кажется, - продолжал он, - что люди, которые торжественно произносят эти слова: "Я вас люблю", или себя обманывают, или, что еще хуже, обманывают других.
- Так как же узнает женщина, что ее любят, когда ей не скажут этого? спросила Катя.
- Этого я не знаю, - отвечал он, - у каждого человека есть свои слова. А есть чувство, так оно выразится. Когда я читаю романы, мне всегда представляется, какое должно быть озадаченное лицо у поручика Стрельского или у Альфреда, когда он скажет: "Я люблю тебя, Элеонора!" и думает, что вдруг произойдет необыкновенное; и ничего не происходит ни у ней, ни у него, - те же самые глаза и нос, и все то же самое.
Я тогда уже в этой шутке чувствовала что-то серьезное, относящееся ко мне, но Катя не позволяла легко обращаться с героями романов.
- Вечно парадоксы, - сказала она, - Ну, скажите по правде, разве вы сами никогда не говорили женщине, что любите ее?
- Никогда не говорил и на колено на одно не становился, - отвечал он, смеясь, - и не буду.
"Да, ему не нужно говорить мне, что он меня любит, - думала я теперь, живо вспоминая этот разговор. - Он любит меня, я это знаю. И все старание его казаться равнодушным не разуверит меня".
Весь этот вечер он мало говорил со мною, но в каждом слове его к Кате, к Соне, в каждом движении и взгляде его я видела любовь и не сомневалась в ней. Мне только досадно и жалко за него было, зачем он находит нужным еще таиться и притворяться холодным, когда все уже так ясно и когда так легко и просто можно бы было быть так невозможно счастливым. Но меня, как преступление, мучило то, что я спрыгнула к нему в сарай. Мне все казалось, что он перестанет уважать меня за это и сердит на меня.
После чаю я пошла к фортепьяно, и он пошел за мною.
- Сыграйте что-нибудь, давно я вас не слыхал, - сказал он, догоняя меня в гостиной.
- Я и хотела... Сергей Михайлыч! - сказала я, вдруг глядя ему прямо в глаза. - Вы не сердитесь на меня?
- За что? - спросил он.
- Что я вас не послушала после обеда, - сказала я, краснея.
Он понял меня, покачал головою и усмехнулся. Взгляд его говорил, что следовало бы побранить, но что он не чувствует в себе силы на это.
- Ничего не было, мы опять друзья, - сказала я, садясь за фортепьяно.
- Еще бы! - сказал он.
В большой высокой зале было только две свечи на фортепьяно, остальное пространство было полутемно. В отворенные окна глядела светлая летняя ночь. Все было тихо, только Катины шаги с перемежечкой поскрипывали в темной гостиной, и его лошадь, привязанная под окном, фыркала и била копытом по лопуху. Он сидел сзади меня, так что мне его не видно было; но везде в полутьме этой комнаты, в звуках, во мне самой я чувствовала его присутствие. Каждый взгляд, каждое движение его, которых я не видала, отзывались в моем сердце. Я играла сонату-фантазию Моцарта, которую он привез мне и которую я при нем и для него выучила. Я вовсе не думала о том, что играю, но, кажется, играла хорошо, и мне казалось, что ему нравится. Я чувствовала то наслаждение, которое он испытывал, и, не глядя на него, чувствовала взгляд, который сзади был устремлен на меня. Совершенно невольно, продолжая бессознательно шевелить пальцами, я оглянулась на него, голова его отделялась на светлевшем фоне ночи. Он сам сидел, облокотившись головою на руки, и пристально смотрел на меня блестящими глазами. Я улыбнулась, увидев этот взгляд, и перестала играть. Он улыбнулся тоже и укоризненно покачал головою на ноты, чтоб я продолжала. Когда я кончила, месяц посветлел, поднялся высоко, и в комнату уже, кроме слабого света свеч, входил из окон другой, серебристый свет, падавший на пол. Катя сказала, что ни на что не похоже, как я остановилась на лучшем месте, и что я дурно играла; но он сказал, что, напротив, я никогда так хорошо не играла, как нынче, и стал ходить по комнатам через залу в темную гостиную и опять в залу, всякий раз оглядываясь на меня и улыбаясь. И я улыбалась, мне даже смеяться хотелось без всякой причины, так я была рада чему-то, нынче только, сейчас случившемуся. Как только он скрывался в дверь, я обнимала Катю, с которою мы стояли у фортепьяно, и начинала целовать ее в любимое мое местечко, в пухлую шею под подбородок; как только он возвращался, я делала как будто серьезное лицо и насилу удерживалась от смеха.
- Что с нею сделалось нынче? - говорила ему Катя.
Но он не отвечал и только посмеивался на меня. Он знал, что со мною сделалось.
- Посмотрите, что за ночь! - сказал он из гостиной, останавливаясь перед открытою в сад балконною дверью...
Мы подошли к нему, и точно, это была такая ночь, какой уж я никогда не видала после. Полный месяц стоял над домом за нами, так что его не видно было, и половина тени крыши, столбов и полотна террасы наискоски en raccourci лежала на песчаной дорожке и газонном круге. Остальное все было светло и облито серебром росы и месячного света. Широкая цветочная дорожка, по которой с одного края косо ложились тени георгин и подпорок, вся светлая и холодная блестя неровным щебнем, уходила в тумане и вдаль. Из-за дерев виднелась светлая крыша оранжереи, и из-под оврага поднимался растущий туман. Уже несколько оголенные кусты сирени все до сучьев были светлы. Все увлажненные росой цветы можно было отличать один от другого. В аллеях тень и свет сливались так, что аллеи казались не деревьями и дорожками, а прозрачными, колыхающимися и дрожащими домами. Направо в тени дома все было черно, безразлично и страшно. Но зато еще светлее выходила из этого мрака причудливо-раскидистая макушка тополя, которая почему-то странно остановилась тут, недалеко от дома, наверху в ярком свете, а не улетела куда-то, туда далеко, в уходящее синеватое небо.