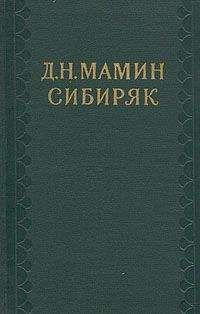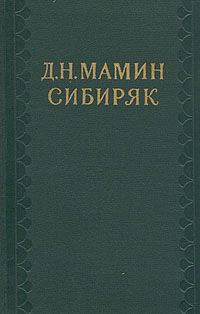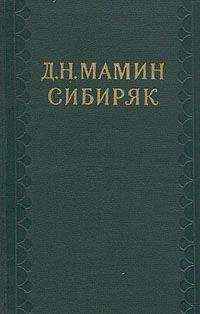Василий Никифоров-Волгин - Ключи заветные от радости
Вошли трое. Вооружены винтовками и гранатами. Голоса дерзкие и хриплые. В тихой молитвенной горнице запахло порохом и водкой.
– Ну, собирайся, отче! – грозно приказал скуластый красноармеец, стукнув винтовкой об пол. Отец Иван вздрогнул, побледнел, неловко, как подстреленный, засуетился по горнице и бессвязно забормотал:
– Я сейчас, я сейчас, сию секунду…
– Скорее канителься-то… брюхатый черт! Паразит на обчественном теле! – редко цедил высокий и дюжий красноармеец.
Отец Иван взглянул на свой впалый худой живот, на тонкие, жиденькие ноги, вспомнил, как прозвали его в семинарии за худобу «Пустынником Антиохии», и тоненько захихикал.
– Ты чего это заржал?
– Да насчет живота я, родные. Так брюхатый, говоришь? – весело переспросил отец Иван дюжего красноармейца. – Потешные вы ребята!
– Ну, нечего словесный сувенир-то разводить! Сряжайся, тебе говорят, грива. А вы, ребята, покелева фатеру обыщите. Нет ли какова-нибудь у попа революционного мартельяру!
– Мы это могим! – ухмыльнулся простоватый парень. – Может, церковного винца раздобудем!
Отцу Ивану стало жутко. Вспомнился недавний расстрел дьякона Громогласова и священника Ливанова. Сам же отпевал их обезображенные, неузнаваемые тела и после этого каждую ночь ждал своей очереди.
С особенной четкостью вспомнился сон:…крест из жемчужных слез… крест… крест… символ страданий…
– Голгофа! – шептал отец Иван побелевшими устами.
Он надел рясу и стал искать шапку. Впопыхах не надел сапог, так и ходил по комнате в тяжелой зимней рясе и в легких комнатных ступанцах.
– Робя… гляди, баба-то у попа какая важненькая! – по-звериному загоготал красноармеец, вынимая карточку из ящика письменного стола.
– Гы-гы!.. Ай да поп! Откуда ена у тебя?
Отец Иван замер от страха, гнева и неожиданности. Рванулся, что было сил, за карточкой и крикнул диким срывающимся голосом:
– Это жена моя покойница! Отдайте ее мне! Не прикасайтесь к ней нечистыми руками!
Красноармеец разорвал карточку, бросил на пол и растоптал грязными сапогами. Отец Иван не бросился на красноармейца, не защищал родимую фотографию от поругания. Он окаменел, частые судороги пробежали по лицу, и глаза округлились, как у безумного.
– Ну собирайся, лягай тебя муха!.. Ты! – толкнули они отца Ивана.
Он молчал и не понимал, чего хотят от него люди. Его взяли под руки и повели. Около дверей он остановился и долгим суровым взглядом обвел комнату… По лицу пробежали судороги, и в глазах остановился ужас.
На полу лежали лоскутья фотографии, не раз им целованной и облитой слезами в горькие часы вдовства.
Пошли по темной улице. На грязную осеннюю землю падал мокрый снег. У отца Ивана на ходу соскочили туфли, и он босой зашагал по студеным лужам.
– Ну, теперь я схвачу простуду! – прошептал отец Иван. Помолчал и вдруг засмеялся: – Не успею простудиться… – сказал отец Иван и засмеялся до упаду хриплым надорванным смехом. Красноармейцы переглянулись и зашептали между собой:
– Поп-от, того, в разуме тронулся!
Земной поклон
Вечерним часом у реки Волхова подошел к богомольцам человек в солдатской рубахе и заплатанных шароварах. Бос. Рыжевато рус. Ростом высок. За плечами австрийский ранец и высокие пыльные сапоги. Глаза тех, кто прошел много дорог, кто часто ночевал под звездами среди степи и леса, кого коснулось монастырское утишие и у кого бессонной была душа.
Старый ходок по святым местам, сухорукий Пахом взглянул на незнаемого человека, улыбнулся как своему и подумал: «Грядет Божий человек… Взор тихий, а душа беспокойная!»
Неведомый спросил:
– Не в монастырь ли, братцы, путь держите?
– Туда, землячок, к образу Пречистых Мати!
– Можно с вами?
– Милости просим, Христов человек!
Пошли вдоль древней реки, в озарении уходящего солнца, кроткими новгородскими полями, навстречу дальнему монастырю, осевшему среди лесов и славному на всю Русь образом Пречистыя Матери, древними новгородскими напевами и чистыми серебряными звонами.
Было богомольцев с новым попутчиком пять человек. Старый ходок Пахом. Бельмастый.
Лохматый. В зимней солдатской папахе и опорках. Мудрый и ласковый взгляд.
Бородатый Ларион в длинном, похожем на подрясник кафтане. Суровый и тощий, как пустынник. Сгорбленная старушка Фекла в черной плисовой кацавейке и монашеском платке, всю дорогу творившая молитву Иисусову. Босой, бледный мальчик Антоша с большими пугливыми глазами, одетый в длинную без пояса холщовую белую рубашку, с букетиком полевых цветов в тоненькой ручке.
Шел Антоша позади всех тихим болезненным шагом, странно молчаливый, не по-детски серьезный и затаенный.
Мерный молитвенный шаг богомольцев так созвучен был летним сумеркам, шелесту травы, переплескам Волхова, догорающим зорям и льдистым мерцаниям вечерней звезды.
– Кто такой будешь, мил человек? – спросил Пахом нового попутчика.
– Игнат Муромцев… – тихо ответил тот и опустил голову.
Богомольцы вздрогнули, и страх затаился в их спокойных крестьянских глазах.
– Не тот ли самый Муромцев, который…
Муромцев не дал Пахому договорить и твердо ответил:
– Да, братцы, тот самый Муромцев, который убивал, грабил, из чаш Господних водку пил, иконы на мушку брал! Это я… я прославленный убийца и зверь! Не бойтесь меня. Простите, Христа ради!
Муромцев упал перед богомольцами на колени и до земли поклонился им.
Часто закрестилась бабка Фекла, кончиком монашеского платка утирая слезы.
Опустил седую голову Ларион. Тяжко вздохнул Пахом и схватился за сердце. Антоша закричал, вдруг в испуге вскинул тоненькими ручками, упал на дорогу и забился в судорогах, захлебываясь пеной.
– Антоша… ясынька… цветик белый… Господь с тобою!.. Владычица Скорбящая, утиши отрока Антония от усякия болисти, от усякия скорби… пособи, поможи… – запричитала над ним Фекла, осеняя детское тельце частыми крестами.
Положили Антошу на травку, сели около него и ждали, когда очнется. Был он особенно трогательный в длинной холщовой рубашке, до синевы бледный, охваченный судорогами, с крепко сжатым букетиком полевых цветов в тоненькой восковой ручке.
– Второй год припадком страждет, – шептал Пахом Муромцеву, – большую муку восприял, ангельская душенька. На глазах ведь отца с матерью расстреляли… Барина, помещика Колыванова, не изволишь знать?
– Колыванова? – задрожал Муромцев, смертельно побледнев, – Так я его…
Ларион не дал договорить Муромцеву и сказал:
– Это его сынок.
– Проклятый я человек! – сквозь рыдающий вой выкрикнул Муромцев. – Так это он… голубчик…. мальчик бледный… которого я кулаками тогда бил!.. Осенним вечером мы на расстрел вели Колывановых-то… отрывисто, тяжело дыша, с безумным блеском в широко открытых глазах рассказывал Муромцев. – Ветер. Слякоть. Снег. Позади нас Антоша… Босой, без шапочки, в нижнем белье… Бежит по улицам и вопит: «Не убивайте папу и маму. Не убивайте, дяденьки дорогие!..» А я его кулаками, чтобы не мешал… Расстреляли Колывановых-то. Упал на тела их Антоша да как закричит!.. С той поры на всю жизнь у меня в памяти этот крик… Ничем заглушить его не мог. Жжет. Не дает покоя. Ночи не пройдет, чтобы не снился мне этот мальчик… Стала меня мучить совесть. До безумия жгла. Однажды не вынес я мерзких дел своих, выбежал зимой в одной гимнастерке на самую людную площадь, встал на колени и у народа честного стал просить прощения. Безумным сочли меня. В дом умалишенных заключили. Убежал я. В странника превратился и вот уже второй год хожу по русским дорогам в чаянии Христова утешения.
Муромцев упал Антоше в ноги и поцеловал их.
– Мученик! – выкрикивал он. – Загубленный мною, извергом проклятым! Прости, святой… Прости за злодейство мое! Бледный, исхудалый… Нами выпитый… Прости меня!
Сурово, как святые на древних иконах, глядели на Муромцева богомольцы.
Когда очнулся Антоша от припадка, взял его Муромцев на руки, и опять пошли мерным русским шагом, краем Волхова, под синими звездными мерцаниями, навстречу дальнему монастырю.
Чаша
Когда мы с отцом Виталием сошли с шаткого крыльца его старозаветного домика, нас овеяло дыханием августовской тьмы, шорохом высоких лип и мерцанием звезд.
– Ночь… – прошептал отец Виталий шепотом вошедшего в тихий храм.
Липовой аллеей мы дошли до белой церкви. Сели среди погоста, на деревянных ступеньках старой часовни, под деревьями. Кругом кресты. Кое-где, над могилами, лампадные огни. В алтарном окне церкви неугасимый свет.
Отец Виталий в белом подряснике. Обхватил руками колени. На плечо упал желтый лист.
– Как ночь, нет мне покоя!.. Так вот и брожу по комнатам своим опустелым, по саду, по кладбищу, забираюсь в лес и все хожу, все тоскую, все зову его, тихого. Не утолят скорбь мою ни молитва, ни ночное бодрствование, ни кротость Господних звезд… Ждут, когда очнется батюшка, а я стою безгласный перед Чашей Господней и плачу… Глядя на меня, и все предстоящие в церкви плачут… – У отца Виталия затряслись плечи. Закрыл лицо руками, – Единственный был у меня после покойницы жены! Ласковый такой да задумный. Рассказы любил про святых мучеников… И всех жалел, всем улыбался сыночек мой маленький!..