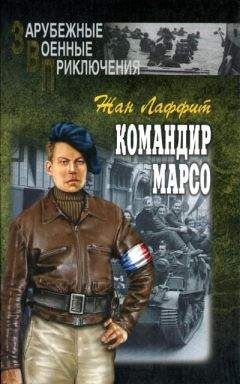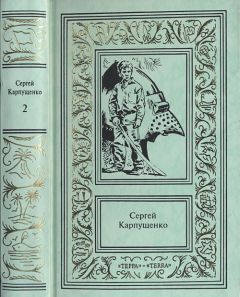Сергей Залыгин - Комиссия
Она пошла, согласилась: «Ладно уж, когда ты, мужик столь вздорный, обязательно хочешь на меня смотреть — смотри!»
А шерсть на Святке — металл, медь или еще какой-то другой, не совсем известный, но мягкий и даже со стороны видно, что теплый. В каждой шерстинке сразу два тепла встречаются — одно идет от солнышка к ней, другое — от нее, от ее тела, к солнышку.
Шаг у Святки тяжелый, но осторожный, лишнего в нем ничего нету, идет и слушает — не упадет ли под ее тяжестью земля, и вот она землю бережет, напрасно по ней не топает.
Шум был — от ее дыхания, от шелеста ее вымени и складок на шее, от того, что она хвостом себя по ногам чуть постукивала, от того, что всё еще жевала на ходу, время не хотела понапрасну тратить, и в глубине у нее что-то легонько побулькивало, копыта на мерзлой почве потрескивали.
Святка прошлась по двору туда-сюда, вернулась на свое прежнее место, на свою соломенную лежанку, но не легла, раздумала, испортил ей хозяин аппетит на лежанке. Продолжая жевать свою жвачку, она закрыла глаза и не то во сне, не то в мечте какой-то замерла стоя.
«Есть жизнь, — подумал Устинов… — Есть, есть и есть!» Он не просто так это сказал себе, а сел на крылечко и стал вспоминать: куда, в какие концы света потянулись от Святки разные ниточки?
Был случай, в семнадцатом году, солдатики уже свободно по окопам ходили, и немцы в русских, и русские в немцев почти не стреляли, больше обзывали, как умели, друг друга из окопа в окоп или обменивались мирными словами, а то и табачком, и вот Устинов, выйдя зачем-то на ничейную полосу, увидел напротив себя немецкую винтовку. Почувствовал, как шарит она по нему мушкой.
И нашелся, не упал на землю, не побежал, а осенило его, и он крикнул во всё горло:
— He Kameraden, wie hoch jetzt der Pries fur ein einjahriges Kalbchen bei euch?
Это он спросил: «Эй, ребята, а почем у вас нынче телочка годовалая?» научился этим словам давно, когда торговал Святку у немца-колониста.
Винтовка дрогнула, потом немец положил ее под себя и спросил:
— Was ist das?
— Wie hoch ist jetzt der Pries fur ein einjahriges Kalbchen bei euch? — повторил Устинов.
— Keine Ahnung! — ответил немец с недоумением.
— Danke, Meister, gut! — поблагодарил Устинов, повернулся и пошел к себе в окоп.
Пришел и сказал: «Берегитесь, товарищи, сёдни немцы будут в нас стрелять. Я только благодаря корове своей, Святке, живой нонче остался!» «Откуда тебе известно? — спросили его. — Ведь вот в тебя же не стреляли? И при чем тут корова? Спятил ты, Устинов!» И не поверили Устинову, и один из солдатиков — шасть из окопа на ту же ничейную полосу. П-п-ах! — раздалось с той стороны, и солдатик кувырком, в грудь навылет.
Оказалось вот что: долгое время наши не стреляли, и немцы тоже помалкивали, установилось как бы перемирие.
Но тут наше Временное правительство толкнуло армию в наступление на Галицию, и затихшая было война разгорелась снова.
После, когда Устинов окончательно понял, что он остался жив, он пожалел — почему это немец встретился ему не очень толковый? Не знал, почем в Германии годовалые телочки? Полезно было бы сравнить: сколько он платил колонисту за Святку и почем нынче у них там стоит такая же? Если уж не совсем точно, так хотя бы примерно.
И вот еще была история — каждому лебяжинцу и даже каждому сибиряку запомнилось.
Когда построена была железная дорога до самого города Владивостока, сибирский мужик воспрял: теперь-то он хлебушко будет сеять, продавать его в Россию, а через моря — в заграничные разные страны. До сих пор он этого не мог, потому что «телушка — полушка, да рубль перевоз».
Но не тут-то было, не сбылись надежды: российские хлеботорговцы заставили правительство учинить «переломный» тариф: как минует хлебный вагон город Челябинск, так и плати за перевоз в Европу половину стоимости хлеба. Задушили купцы и помещики сибирского пахаря. Он от них ушел в далекую Сибирь, а они всё равно достали его своей жестокой и длинной рукой.
Дрогнула крестьянская Сибирь — как быть? Для чего тогда ей вольные земли, большие пашни? И неужели жить ей дальше, как жила она до сих пор, без фабричных товаров, на которые денег у нее нет, тем более что товары эти в Сибири дороги — по причине той же самой дальней доставки? И может быть, это только начало, а что и как будет еще придумано, чтобы отомстить сибиряку за его многоземелье, за свободу от помещика?
Из многих степных деревень потянулись новопоселенцы, не успевшие закрепиться на месте, обратно в Россию. Другие отрывались от хлебопашества, шли на промыслы, на разные стройки, на Дальний Восток, где, говорили, можно прожить не одним, так другим — не хлебом, так охотой, не охотой, так рыбалкой, не рыбалкой, так приисковой работой.
Среди лебяжинцев таких случаев не было, старожил-чалдон не мог представить себе возвращения в Россию — кругом тесную, всяческими межами перекрытую. Для лебяжинца оставаться лебяжинцем — было делом значительным, необходимым для жизни. Он только выйдет в поле, глянет в простор земли, отрезанной обществу из огромного сибирского пирога, и у него перед работой — перед пахотой либо посевом — слюнки текут, как перед едой. Но что-то дрогнуло и в этих чалдонах, жизнь оказалась и для них шаткой, надо было напрягаться умом, думать о жизни больше, примечать в ней разные перемены. Ведь это кто бы мог представить, что мужик с хорошим хлебом вдруг может оказаться в беде?
А кто выручил, отвел грозу: Святка!
Тут-то и вышла она в царицы жизни и начала работать и за себя, и за Моркошку с Соловком, и за Груню, и за всю другую скотину, выгоняя душистое молочко, да еще каждый год по тёлочке. Она на бычков не очень была расположена, тёлочек гораздо чаще приносила, а их, малюток, не только лебяжинские, но и жители других деревень покупали с огромным удовольствием, так что Устинов стал подумывать: да кто же главный-то в хозяйстве, Святка или кони рабочие? Он, мужик, пахарь и сеятель, или бабы, которые Святку обихаживают?
Уже через несколько лет читал Устинов в газетке, что лишь одна страна — страна Дания — вывезла от себя масла больше, чем Сибирь, никто другой в этом деле с сибиряками не тягался: четыре с лишним миллиона пудов в год не каждому государству этакий слой маслица возможно было на кусок хлеба намазать!
Правда, Лебяжка и вся местность вокруг нее перестали теперь быть землей обетованной, не тянулись сюда, как прежде, переселенцы, не вымаливали ради христа приписки к местным обществам, всё севернее и севернее, под самую тайгу-урман, начали заходить переселенческие обозы, туда, где вольно было с лугами и сенокосами, но Лебяжка от этого не очень пострадала — почета меньше, меньше и хлопот. Да и зачем он, почет, после того, как чуть было не покачнулось стародавнее, на зеленом бугре по-над озером селение Самсония Кривого?
К тому же за Лебяжкой оставалась ее хоть и не золотая, а все-таки жила: лес оставался у нее сразу же за огородами. Лебяжинская дача, царская собственность, но мужику полезная неизменно. Как раз в те годы многие лебяжинцы пошли по дереву — одни плотничать, другие гнать деготь, промышлять лесной подсечкой.
И даже те хозяева, которые ни на шаг не отстали от хлеба и пашни, тоже задумали жить не так, как прежде жили: в складчину покупали сноповязалки, молотилки, сеялки, в складчину же посылали одного мужика из молодых и смекалистых на курсы машинистов, он и работал после не только на своем наделе, но за натуральную плату — на участках всех артельщиков.
Сделан был шаг, а вот он уже и следующий определяет: все земельные наделы артельщиков надо было свести в одно место, рядышком, чтобы не гонять машины из края в край лебяжинского землепользования — это же десятки верст получалось!
Общество поспорило, посомневалось и уважило артель: при очередном переделе земли отвело ей дальний, но не с плохими почвами надел, большой угол. Артельщики размежевали его между собою уже своим собственным порядком.
Так и начала с той поры называться артель «углом», а все члены ее «угловскими». Ну и еще производственной кооперацией называлась она. А если кооперация, то, само собою, во главе ее стал Петр Калашников.
О молочной и потребительской кооперации и говорить нечего, едва ли не в каждой деревне народилась лавка потребительского общества и завод маслодельный с ручной работой или с конным приводом, а в Лебяжке так заведен был завод механический — паровой движок работал на отходах лесного промысла, крутил маслобойки, а когда надо — и лесопильную раму.
И шло бы это артельное начало дальше и мало-помалу складывалось бы в новую жизнь, может быть — в счастливую, если бы не война. Война и машинистов призвала к себе, и других мужиков. Распался «угол». Как начал он строить летом четырнадцатого года общий машинный сарай, закопал столбы неподалеку от места, где нынче поставлена была новая школа, так и стояли они до сих пор, те одинокие столбы-памятники. И ходили вблизи них лебяжинцы, не только бывшие «угловские», но и другие, всё с каким-то странным любопытством: а вдруг оживут?