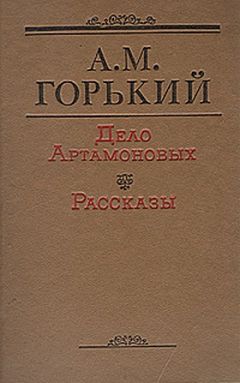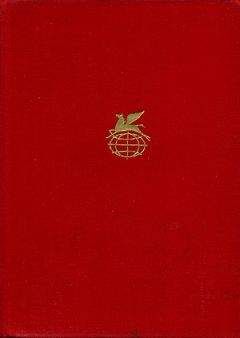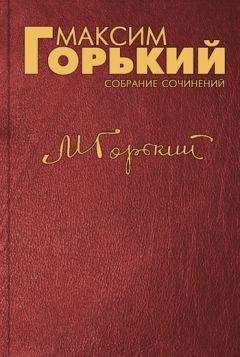Максим Горький - Дело Артамоновых
Яков слышал, как однажды, после обычного столкновения отца с Мироном, Митя сказал Мирону:
- Соединение страшненького и противненького с жалким, - чисто русская химия!
И тотчас же утешил:
- Но - ничего! Это скоро пройдёт, изживётся. Мы - очищаемся...
Праздничным вечером, в саду за чаем, отец пожаловался:
- Я без праздника прожил! - Зять тотчас взвился ракетой, рассыпался золотым песком бойких слов:
- Это - ваша ошибка и ничья больше! Праздники устанавливает для себя человек. Жизнь - красавица, она требует подарков, развлечений, всякой игры, жить надо с удовольствием. Каждый день можно найти что-нибудь для радости.
Говорил он долго, ловко, точно на дудочке играя, и все за столом примолкли; всегда бывало так, что, слушая его, люди точно засыпали; Яков тоже испытывал обаяние его речей, он чувствовал в них настоящую правду, но ему хотелось спросить Митю:
"Зачем же ты женился на некрасивой, глупой девице?"
Яков видел в его отношении к жене нечто фальшивое, слишком любезное, подчёркнутую заботливость; Якову казалось, что и сестра чувствует эту фальшь, она жила уныло, молчаливо, слишком легко раздражалась и гораздо чаще, оживлённее беседовала о политике с Мироном, чем с весёлым мужем своим. Кроме политики, она не умела говорить ни о чём.
Иногда Яков думал, что Митя Лонгинов явился не из весёлой, беспечной страны, а выскочил из какой-то скучной, тёмной ямы, дорвался до незнакомых, новых для него людей и от радости, что, наконец, дорвался, пляшет пред ними, смешит, умиляется обилию их, удивлён чем-то. Вот в этом его удивлении Яков подмечал нечто глуповатое; так удивляется мальчишка в магазине игрушек, но - мальчишка, умно и сразу отличающий, какие игрушки лучше.
Из всех людей в доме и на фабрике двое определённо не любили Татьянина мужа: дядя Никита и Тихон Вялов. На вопрос Якова: как ему нравится Митя, дворник спокойно ответил:
- Неверный.
- Чем?
- Муха. На всякую дрянь садится.
Яков долго, настойчиво допрашивал старика, но тот не мог сказать ничего более ясного:
- Сам видишь, Яков Пётрович, - сказал он. - Видишь ведь: человек фигуры выдумывает.
Дядя, монах, сказал почти то же.
- Пылит, - сказал он, вздохнув. - Я таких много видел, краснобаев. Путают они народ. И сами тоже в словах запутались. Скажи ему: горох, а он тебе: горы, ох... Да, да.
Было странно слышать, что этот кроткий урод говорит сердито, почти со злобой, совершенно не свойственной ему. И ещё более удивляло единогласие Тихона и дяди в оценке мужа Татьяны, - старики жили несогласно, в какой-то явной, но немой вражде, почти не разговаривая, сторонясь друг друга. В этом Яков ещё раз видел надоевшую ему человеческую глупость: в чём могут быть не согласны люди, которых завтра же опрокинет смерть?
Дядя Никита умирал. Якову казалось, что отец усердно помогает ему в этом, почти при каждой встрече он мял и давил монаха упрёками:
- Я весь век жил в людях волом, а ты - живёшь котом. Все заботятся устроить тебе потеплее, помягче и даже будто не видят, что ты горбат. Меня все считают злым, а какой я злой? Я всю жизнь...
Втягивая голову в горб, монах просил, покашливая:
- Ты - не сердись.
Чувство брезгливости к отцу, к его обнаженной, точно из мыла слепленной груди, покрытой плесенью седоватых волос, тоже мешало жить Якову, это чувство трудно было прятать, скрыть. Он изредка должен был напоминать себе:
"Отец. От него я родился".
Но это не украшало отца, не гасило брезгливость к нему, в этом было даже что-то обидное, принижающее. Отец почти ежедневно ездил в город как бы для того, чтоб наблюдать, как умирает монах. С трудом, сопя, Артамонов старший влезал на чердак и садился у постели монаха, уставив на него воспалённые, красные глаза. Никита молчал, покашливая, глядя оловянным взглядом в потолок; руки у него стали беспокойны, он всё одёргивал рясу, обирал с неё что-то невидимое. Иногда он вставал, задыхаясь от кашля.
- Хрустишь? - спрашивал брат.
Никита полз к окну, хватаясь руками за плечи брата, спинку кровати, стульев; ряса висела на нём, как парус на сломанной мачте; садясь у окна, он, открыв рот, смотрел вниз, в сад и в даль, на тёмную, сердитую щетину леса.
- Ну, отдохни, - говорил брат, дёргая дряблую мочку уха, спускался вниз и оповещал Ольгу:
- Хрустит. Скоро уж...
Приезжал толстый монах, отец Мардарий, и убеждал отправить Никиту в монастырь, по какому-то уставу он должен умереть именно там и там же его необходимо было похоронить. Но горбун уговорил Ольгу:
- После отвезёте туда, когда умру.
И жалобно, трижды попросил:
- Крышечку гроба повыше сделайте, чтоб не давила. Уж не забудьте!
Умер он за четыре дня до начала войны, а накануне смерти попросил известить монастырь:
- Пусть приедут за мной, я к их прибытию успею помереть.
Утром, в день смерти его, Яков помог отцу подняться на чердак, отец, перекрестясь, уставился в тёмное, испепелённое лицо с полузакрытыми глазами, с провалившимся ртом; Никита неестественно громко сказал:
- Прости меня.
- Ну, что ты? За что? - проворчал Пётр Артамонов.
- За дерзость мою...
- Меня прости, - сказал старший. - Я тут, иной раз, шутил с тобой...
- Бог шутку не осудит, - шёпотом уверил монах, а брат, помолчав, спросил:
- Вот, как ты теперь?.. Куда?
- Забыл я, - торопливо заговорил монах, прервав брата. - Ты, Яша, скажи Тихону, спилил бы он кленок у беседки, не пойдёт кленок, нет...
Невыносимо было Якову слушать этот излишне ясный голос и смотреть на кости груди, нечеловечески поднявшиеся вверх, точно угол ящика. И вообще ничего человеческого не осталось в этой кучке неподвижных костей, покрытых чёрным, в руках, державших поморский, медный крест. Жалко было дядю, но всё-таки думалось: зачем это установлено, чтоб старики и вообще домашние люди умирали на виду у всех?
Подождав, не скажет ли брат ещё чего, отец ушёл под руку с Яковом, молчаливо опустив голову. Внизу он сказал:
- Умирает.
- Да? - спросил Мирон, сидя у стола, закрыв половину тела своего огромным листом газеты; спросив, он не отвёл от неё глаз, но затем бросил газету на стол и сказал в угол жене:
- Я был прав, - читай!
Его кругленькая жена подкатилась к столу, а мать, сидя у окна, испуганно спросила:
- Неужели, Мирон, неужели война?
- Вот и второй Артамонов, - громко напомнил Пётр.
- Врут, конечно, - сказал Мирон жене или Якову, который тоже, наклонясь над газетой, читал тревожные телеграммы, соображая: чем всё это грозит ему? Артамонов старший, махнув рукою, пошёл на двор, там солнце до того накалило булыжник, что тепло его проникало сквозь мягкие подошвы бархатных сапогов. Из окна сыпались сухенькие, поучающие слова Мирона; Яков, стоя с газетой в руках у окна, видел, как отец погрозил кому-то своим багровым кулаком.
На третий день, рано утром, приехали монахи; их было семеро, все разного роста и объёма, они показались Якову неразличимыми, как новорождённые. Лишь один из них, самый высокий, тощий, с густейшей бородою и не подобающим ни монаху, ни случаю громким, весёлым голосом, тот, который шёл впереди всех с большим, чёрным крестом в руках, как будто не имел лица: был он лысый, нос его расплылся по щекам, и кроме двух чёрненьких ямок между лысиной и бородой у него на месте лица ничего не значилось. Шагая, он так медленно поднимал ноги, точно был слеп; он пел на три голоса:
- "Святый боже", - низко, почти басом;
- "Святый крепкий", - выше, тенористо, а
- "Святый бессмертный, помилуй нас!" - так пронзительно, что мальчишки, забегая вперёд, с удивлением смотрели в бороду его, вместилище невидимого трёхголосого рта.
Когда похороны вышли из улицы на площадь, оказалось, что она тесно забита обывателями, запасными, солдатами поручика Маврина, малочисленным начальством и духовенством в центре толпы. Хладнокровный поручик парадно, монументом стоял впереди своих солдат, его освещало солнце; конусообразные попы и дьякона стояли тоже золотыми истуканами, они таяли, плавились на солнце, сияние риз тоже падало на поручика Маврина; впереди аналоя подпрыгивал, размахивая фуражкой, толстый офицер с жестяной головою.
Трёхголосый монах, покачивая чёрным крестом, остановился пред стеною людей и басом сказал:
- Расступитесь!
Но люди расступились не пред ним, а пред рыжей, длинной лошадью Экке, помощника исправника, - взмахивая белой перчаткой, он наехал на монаха, поставил лошадь поперёк улицы и закричал упрекающе, обиженно:
- К-куда? Что вы, не видите? Назад!
Монах, подняв крест, затянул:
- Святый бо-о...
- Ур-ра! - крикнул офицер, и весь народ на площади тысячами голосов разъярённо рявкнул:
- Ур-рра-а...
А Экке, привстав на стременах, тоже кричал:
- Пётр Ильич, пож-жалуйста, переулочком! В обход! Мирон Алексеевич прошу вас! Тут - воодушевление, а вы, - как же это?
Артамонов старший, стоя у изголовья гроба, поддерживаемый женою и Яковом, посмотрел снизу вверх на деревянное лицо Экке и угрюмо сказал монахам, которые несли гроб: