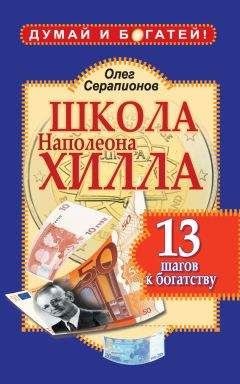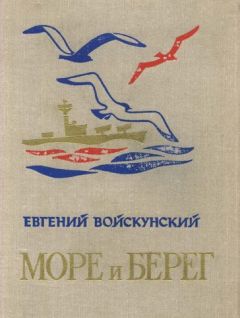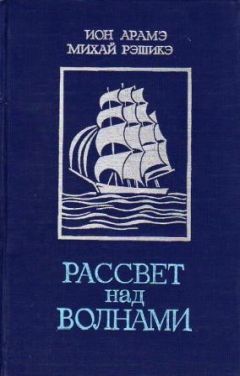З Вендров - Наша улица (сборник)
Пристав даже подскочил.
Вот это шанс отличиться перед начальством! Шутка ли, такого опасного преступника поймали! Да, счастье привалило! Он сам отвезет его в Москву. Конечно, сам, когда ему еще доведется показать начальству, какова полиция в его стане? Очень довольный, пристав похвалил урядника:
- Молодец, Запирайлов! Где ты его застукал?
- Рад стараться, ваше бродне! У меня в деревне, в Обчиралове.
И урядник начал обстоятельно рассказывать, как он увидел каторжника и как убедился в том, что это Антон Белов. Как Антошка Белов показал ему фальшивый паспорт и пытался откупиться от него деньгами, и как он не поддался, и как привел каторжника сюда, в стан, со связанными руками, в сопровождении сотского и двух понятых.
Приставу наконец надоело слушать болтовню Запирайлова, и он с нетерпением прервал его:
- Ладно, ладно, дай протокол и введи арестанта!
- Слушаюсь! - отчеканил Запирайлов, вытаскивая из-за обшлага вчетверо сложенный лист бумаги. Вручая его приставу, он доложил:
- Здесь внутри, лежит вещественное доказательство - двадцать пять рублей, которыми арестант хотел меня подкупить, чюбы я его отпустил. А вот и остальгое, - и он выложив на стол все, что забрал у задержанного.
Не успел пристав как следует разобраться в безграмотном протоколе, как Запирайлов распахнул дверь и втолкнул в комнату арестанта, а сам остался стоять у дверей.
Взглянув на бледного, измученного арестанта со связанными за спиной руками, пристав сразу узнал еврея Менделя Бурштина. Два дня тому назад, вместо того чтобы выслать его по этапу, он написал: "На выезд", получив от него за это десятку.
У пристава даже шея и уши покраснели от бешенства.
Он и сам не знал, что его больше разозлило: то, что он потерял возможность отличиться перед начальством, или то, что урядник зря поднял его с постели.
Разъяренный, он повернулся к Запирайлову и закричал:
- Болван! Какой же это каторжник? Глаза у тебя, что ли, вылезли, пустомеля!
Запирайлов позеленел ог страха:
- Ваше высокобродие! Мы стараемся... Я увидел, что он так испугался... Сразу двадцать пять рублей сунул в руку... И приметы сходится... Я думал... Я думал, каторжник, - бормотал он.
- Ду-умал! - передразнил его пристав. - Посмотрел бы на обороте паспорта и увидел бы, что там написано:
"На выезд", тогда ты бы знал, чего он испугался, подуумал! Разве тебе полагается думать?
- Виноват, ваше бродне... Мы по долгу службы... Мы стараемся... - все пытался оправдаться Запирайлов.
- Пшел вон, болван! - топнул ногой разъяренный пристав. - Старается! Каторжника мне доставил! Вот так каторжника нашел! Молчать! - прогремел он, заметив, что урядник собирается еще что-то сказать. - Развяжи ему руки, баран, и - марш!
Как только урядник затворил за собой дверь, пристав взял вещественное доказательство, приложенное к протоколу, и спокойно опустил в карман брюк, потом, опершись на спинку стула, сказал:
- Ну, голубчик, мы опять здесь? Не гадал так скоро свидеться... Похоже, придется вое-таки совершить прогулочку по этапу, а? Ну что ж, хочешь обязательно по этапу - могу уважить.
- Ваше высокоблагородие! Пощадите! Я совсем больной, целую ночь протащился пешком, со связанными руками, точно и в самом деле каторжник... Отпустите, я ведь не вор... и не разбойник... Я только хочу жить, кормить свою семью... Вот и приезжаю, чтобы заказать кустарям работу и получить от них товар.
Пристав нащупал в кармане новенькую хрустящую ассигнация и, немного смягчившись, сказал:
- Сам виноват. Кто тебе велел пугать урядника?
Почему ему и не подумать, что ты беглый каторжник, если ты ему суешь в зубы двадцать пять рублей? Уряднику полагается целковый, ну два целковых, а не четвертной билет. Двадцать пять рублей, голубчик мой, - это для чинов повыше. Ну да ладно! Не хнычь, не ной тут у меня, на этот раз прощаю, иди на все четыре стороны, но больше мне на глаза не попадайся. Приехал в деревню, сделал свое дело, и скатертью дорога... И запомни, что для урядника трешка - самая большая ассигнация, понял? Ну, марш...
Бурштин наскоро собрал со стола конфискованные у него вещи и, поблагодарив пристава за его "доброе сердце", быстро вышел из канцелярии.
1912
НАГРАДА
1
Степановка славилась по всей округе своими пловцами.
Жители местечка, расположенного на Немане, испокон веку гнали плоты; каждый степановец с самого детства полжизни проводил в воде и плавал как рыба.
Что же касается Авнера Щупака, то он выделялся даже среди степановских пловцов.
Из поколения в поколение Щупаки содержали водяную мельницу.
Вода их кормила, к воде они привыкли, дети начинали плавать немногим позже, чем ходить.
Авнер прямо с моста прыгал в воду, плавал саженками, брассом, кролем и на спине, - в общем, не было равного ему во всей Степановке И если бы вам захотелось посмотреть, как челивек плавает сидя, как ныряет у одного берега и выплывает у противоположного, - вам надо было бы только попросить об этом Авнера.
И именно за свое искусство Авнер дорого поплатился.
Дело было так.
Когда во время наводнения затопило левобережную Степановку, первой пострадала водяная мельница Авнера. Если бы не сваи, которые остались торчать, когда спала вода, никто бы не поверил, что здесь когда-то стояла мельница. Бурные волны смыли ее до основания, как щепку, понесли по течению, далеко-далеко, к Балтийскому морю, а оттуда, наверное, к Атлантическому океану, и там эмигрировавшие в Америку степановцы, может быть, встретились с каким-нибудь бревном от мельницы Авнера, и оно передало им привет из родного местечка.
Одним словом, наводнение разорило Авнера больше, чем если бы случился пожар.
И он начал писать своим далеким и близким родственникам, чтобы они помогли ему встать на ноги.
Ответ Авнер получил только от Лейбла, племянника жены, жившего в Самаре.
Лейбл рос сиротой, без отцл и матери, кормился то у одного родственника, то у другого. К учению у него не было особой охоты, и родственники решили: все равно ничего путного из парня не получнтсл, надо отдать его в ученики к портному. По крайней мере, не будет видеть у них на шее. Потом Лейбля забрали в солдаты и отправили в Самару. Там, еще не отслужив всего срока, он женился на портнихе. Окончив службу, Лейбл открыл портняжную мастерскую "мужскую и женскую, военною и штатскую" и остался жить в Самаре.
Обычно родня редко вспоминала о Лейбле, и даже поздравительную открытку, которою он всегда присылал к Новому году, жена Авнера принимала неохотно и говорила, поджав губы: "Кто его просит напоминать о себе, этого милого родственничка..." Но теперь, когда наг|.янула беда, вспомнили и о нем.
И Лейбл, добрый, бесхитростный человек, сразу ответил, что, во-первых, он, слава богу, жив-здоров, - дай гог то же самое услышать о тете и о дяде. Во-вторых, он советует дяде приехать к нему в Самару.
"Зачем вам, дорогом дядя, мучиться в этой захудалой Степановне? - писал Лейба. - Бросьте все ваши дела, приезжайте к нам в Самару, и я вас устрою на какуюнибудь мельницу. В Самаре много мельниц. На худой копен вы здесь сможете служить кантором в синагоге или обучать мальчиков священному писанию. У нас в Самаре несколько сот еврейских семей - не сглазить бы - и ни одного приличного меламеда. Для такого человека, как вы, хороню знающего синагогальную елужбу и священное писанке, заработать каких-нибудь сто рублей в месяц - пустяковое дело. Если вы согласны, я вам вышлю пятьдееяг рублей на дорогу, и как только вы их получите, сразу выезжайте. Бог даст, не пожалеете об этом, как желает вам ваш глубокоуважаемый любезный племянник Лейбл Безбородка. Что касается правожительства, как-нибудь обойдется. Вы не первый и не последний..."
Нельзя сказать, что совет племянника пришелся Авнеру по душе - не такая уж радость сорваться с места, где жили веками поколения предков, и поехать бог знает куда! А правожителство тоже не пустяк. Но что делать?
Ничего лучшего не придумаешь. И Авнер написал Лейблу, что его совет кажется ему разумным. Пусть вышлет деньги ни дорогу.
Половину полученных денег Авнер оставил жене, а половину взял на проезд в Самару.
- Кто знает, может, меня там в самом деле ждет удача, - утешал Анкер жену. - Все же Россия!
2
Стоял душный летний вечер.
Авнер Щупак возвращался с последнего урока и думал о тол, что обучать еврейской грамоте самарских оболтусов намного труднее, чем перетаскивать по дощатому настилу мешки с зерном. Мало того, что он никак не может вбить им в голову грамоту, они еще издеваются над ним, всячески унижают. Они смеются над его бородкой, над бумажным воротничком, над широкополой шляпой, передразнивают его речь. Некоторые озорники, как только завидят его, пускаются бежать, и ему приходится гоняться за ними по всему двору. А один из этих лоботрясов во время занятий поднимает рев ни с того ни с сего, как будто с нею живьем шкуру сдирают. Тогда в комнату входит толстая надутая мамаша и, протягивая руки к своему чаду, ворчит: