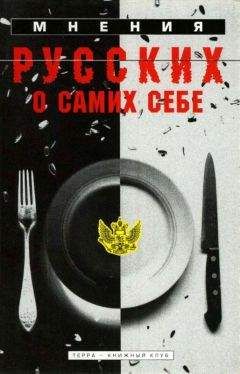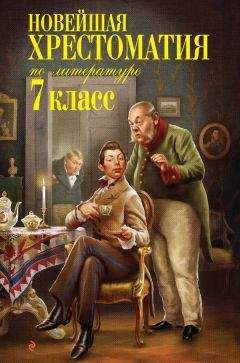Иван Бунин - Том 1. Стихотворения. Рассказы
Меня тянуло туда, к меловым серым конусам, к месту той пещеры, где в трудах и молитве, простой и возвышенный духом, проводил свои дни первый человек этих гор, та великая душа, которая полюбила горный гребет над Малым Танаисом. Дико и глухо было тогда в первобытных лесах, куда пришел святой человек. Лес бесконечно синел под ним. Лес глушил берега, и только река, одинокая и свободная, плескала и плескала своими холодными волнами под его навесом. И какая тишина царила кругом! Резкий крик птицы, треск сучьев под ногами дикой козы, хриплый хохот кукушки и сумеречное уханье филина — все гулко отдавалось в лесах. Ночью величавый мрак простирался над ними. По шороху и плеску воды угадывал инок, что вплавь переходят Донец люди. Молчаливо, как рать дьяволов, перебирались они через реку, шуршали по кустам и исчезали во мраке. Жутко тогда было в горной норе одинокому человеку, но до рассвета мерцала его свечечка и до рассвета звучали его молитвы. А утром, изнуренный ночными ужасами и бдением, но с светлым лицом, выходил он на божий день, на дневную работу, и опять коротко и тихо было в его сердце…
Глубоко внизу подо мною все тонуло в теплых сумерках, мелькали огни. Там уже начиналась сдержанно радостная тревога приготовлений к светлой заутрене. А здесь, за меловыми утесами, было тихо и еще брезжил свет зари. Птицы, живущие в трещинах скал и под карнизами церковки, реяли вокруг, визжа, как старый флюгер, и всплывали снизу и неслышно падали вниз, в сумрак, на своих мягких крыльях. Туча с юга заволокла все небо, вея теплотой дождя, весенней душистой грозы, и уже содрогалась от вспышек молний. Сосны горного обрыва сливались в темную опушку и чернели, как горб спящего зверя…
Я успел сходить и на вершину горы, в верхнюю церковку, нарушил шагами ее гробовую тишину. Монах, как привидение, стоял за ящиком со свечами. Два-три огонька чуть потрескивали… Поставил и я свою свечу за того, кто, слабый и преклонный летами, падал ниц в этом маленьком храме в те давние грозные ночи, когда костры осады пылали под стенами обители…
IIIУтро было праздничное, жаркое; радостно, наперебой трезвонили над Донцом, над зелеными горами колокола, уносились туда, где в ясном воздухе стремилась к небу белая церковка на горном перевале. Говор гулом стоял над рекой, а на баркасе прибывало по ней в монастырь все больше и больше народу, все гуще пестрели праздничные малороссийские наряды. Я нанял лодку, и молоденькая хохлушка легко и быстро погнала ее против течения по прозрачной воде: Донца, в тени береговой зелени. И девичье личико, и солнце, и тени, и быстрая речка — все было так прелестно в это милое утро…
Я побывал в скиту — там было тихо, и бледная зелень березок слабо шепталась, как на кладбище, — и стал взбираться в гору.
Взбираться было трудно. Нога глубоко тонула во мху, буреломе и мягкой прелой листве, гадюки то и дело быстро и упруго выскальзывали из-под ног. Зной, полный тяжелого смолистого аромата, неподвижно стоял под навесами сосен. Зато какая даль открылась подо мною, как хороша была с этой высоты долина, темный бархат ее лесов, как сверкали разливы Донца в солнечном блеске, какою горячею жизнью юга дышало все крутом! То-то, должно быть, дико-радостно билось сердце какого-нибудь воина полков Игоревых, когда, выскочив на хрипящем коне на эту высь, повисал он над обрывом, среди могучей чащи сосен, убегающих вниз!
А в сумерках я уже опять шагал в степи. Ветер ласково веял мне в лицо с молчаливых курганов. И, отдыхая на них, один-одинешенек среди ровных бесконечных полей, я опять думал о старине, о людях, почивающих в степных могилах под смутный шелест седого ковыля…
1895
На даче
Окна в сад были открыты всю ночь. А деревья раскидывались густой листвой возле самых окон, и на заре, когда в саду стало светло, птицы так чисто и звонко щебетали в кустах, что отдавалось в комнатах. Но еще воздух и молодая майская зелень в росе были холодны и матовы, спальни дышали сном, теплом и покоем.
Дом не походил на дачный; это был обыкновенный деревенский дом, небольшой, но удобный и покойный. Петр Алексеевич Примо, архитектор, занимал его уже пятое лето. Сам он больше бывал в разъездах или в городе. На даче жила его жена, Наталья Борисовна, и младший сын, Гриша. Старший, Игнатий, только что кончивший курс в университете, так же, как и отец, появлялся на даче гостем: он уже служил.
В четыре часа в столовую вошла горничная. Сладко зевая, она переставляла мебель и шаркала половой щеткой. Потом она прошла через гостиную в комнату Гриши и поставила у кровати большие штиблеты на широкой подошве без каблука.
Гриша открыл глаза.
— Гарпина! — сказал он баритоном.
Гарпина остановилась в дверях.
— Чого? — спросила она шепотом.
— Поди сюда.
Гарпина покачала головой и вышла.
— Гаприна! — повторил Гриша.
— Та чого вам?
— Поди сюда… на минутку.
— Hе пiду, хоч зарiжте!
Гриша подумал и крепко потянулся.
— Ну, пошва вон!
— Бариня загадали вчора спитать вас, чи попдете у город?
— А дальше?
— Казали, щоб не пздили, бо барин cьoгoлнi прыпдуть.
Гриша, не отвечая, обувался.
— Повотенце? — спросил он громко.
— Та на столi — он! Не збудiть бариню…
Заспанный, свежий и здоровый, в сером шелковом картузе, в широком костюме из легкой материи, Гриша вышел в гостиную, перекинул через плечо мохнатое полотенце, захватив стоявший в углу крокетный молоток, и, пройдя переднюю, отворил дверь на улицу, на пыльную дорогу.
Дачи в садах тянулись направо и налево в одну линию. С горы открывался обширный вид на восток, на живописную низменность. Теперь все сверкало чистыми, яркими красками раннего утра. Синеватые леса темнели по долине; светлой, местами алой сталью блестела река в камышах и высокой луговой зелени; кое-где с зеркальной воды снимались и таяли полосы серебряного пара. А вдали широко и ясно разливался по небу оранжевый свет зари: солнце приближалось…
Легко и сильно шагая, Гриша спустился с горы и дошел по мокрой, глянцевитой и резко пахнущей сыростью траве до купальни. Там, в дощатом номере, странно озаренном матовым отсветом воды, он разделся и долго разглядывал свое стройное тело и гордо ставил свою красивую голову, чтобы походить на статуи римских юношей. Потом, слегка прищуривая серые глаза и посвистывая, вошел в свежую воду, выплыл из купальни и сильно взмахнул руками, увидав, что на горизонте чуть-чуть показавшееся солнце задрожало тонкой огнистой полоской. Белые гуси с металлически-звонкими криками, распустив крылья и шумно бороздя воду, тяжело шарахнулись в тростники. Широкие круги, плавно перекатываясь, закачались и пошли к реке…
— Григорий Петрович! — крикнул чей-то голос с берега.
Гриша перевернулся и увидал на берегу высокого мужика с русой бородою, с открытым лицом и ясным взглядом больших голубых глаз навыкате. Это был Каменский, «толстовец», как его называли на дачах.
— Вы придете сегодня? — крикнул Каменский, снимая картуз и вытирая лоб рукавом замашной рубахи.
— Здравствуйте!.. Приду, — отозвался Гриша. — А вы куда, если не секрет?
Каменский с улыбкой взглянул исподлобья.
— Ведь вот люди! — сказал он важно и ласково. — Всё у них секреты!
Гриша подплыл к берегу и, стоя и качаясь по горло в воде, пробормотал:
— Ну, если хотите, не секрет… Я просто полюбопытствовал, почему вы меня спросили?
— А мне нужно побывать у знакомых.
— Да, так вы в город едете!
— Разве в город только ездят? — снова перебил Каменский. — И разве знакомые бывают только в городе?
— Конечно, нет. Только я не понимаю…
— Вот это верно. Я сказал, что буду и в городе и у знакомых — вот тут недалеко — на огородах.
— Так, значит, попоздней прийти?
— Да, попоздней.
— Тогда до свидания! — крикнул Гриша и подумал: «Правду говорит Игнатий — психопаты!» Но, отплывши, он опять обернулся и пристально посмотрел на высокую фигуру в мужицкой одежде, уходившую по тропинке вдоль реки.
На реке еще было прохладно и тихо. За лугами, в синеющей роще, куковала кукушка. У берега зашуршали камыши, и из них медленно выплыла лодка. Седенький старичок в очках и поломанной соломенной шляпе сидел в ней, рассматривая удочку. Он поднял ее и соображал что-то, лодка остановилась и вместе с ним, с его белой рубашкой и шляпой, отразилась в воде. А из купальни слышались крики, плеск и хохот. По гнущимся доскам бежали с берега, стуча сапогами, гимназисты, студенты в белых кителях, чиновники в парусинных рубашках…
Грише не хотелось возвращаться туда, и он стал нырять, раскрывать глаза в темно-зеленой воде, и его тело казалось ему чужим и странным, словно он глядел сквозь стекло. Караси и гольцы с удивленными глазками останавливались против него и вдруг таинственно юркали куда-то в темную и холодную глубину. Вода мягко, упруго сжимала и качала тело, и приятно было чувствовать под ногами жесткий песок и раковины… А наверху уже припекало. Теплая, неподвижная вода блестела кругом, как зеркало. С зеленых прибрежных лозин в серых сережках тихо плыл белый пух и тянуло запахом тины и рыбы.