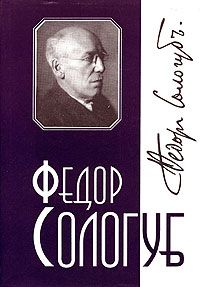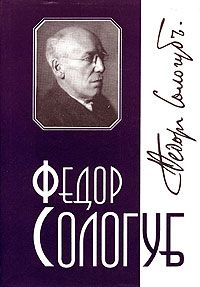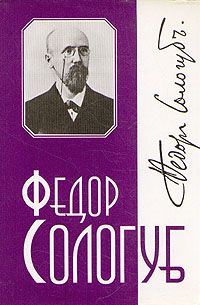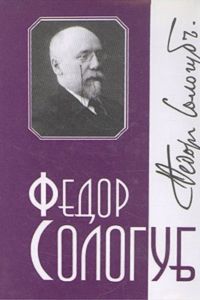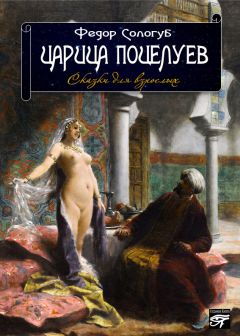Федор Сологуб - Том 6. Заклинательница змей
И уже не могла больше, заплакала. И, словно обрадованная и освобожденная, омывшая все свое горе в слезных потоках, она говорила, плача:
– Люблю, всю жизнь любила. Вы это знаете.
Абакумов говорил настойчиво:
– Вы должны уйти со мною! Теперь, когда я стал свободен, уйдите со мною, умоляю вас, Люба моя милая!
И, плача, говорила Любовь Николаевна:
– Друг мой, вы знаете, я не свободна. У меня взрослые дети. Как я погляжу им в глаза? Подумайте, друг мой! Сердце мое разрывается. Отчего вы не позвали меня раньше?
– Я знаю, – говорил Абакумов, – моя вина пред вами так велика! Я боялся позвать вас. Это было малодушие с моей стороны, недостаток практической воли, свойственный такому книжному и кабинетному человеку, как я. И я не решался подвергнуть вас мщению ревнивой, взбалмошной женщины. Она была такая экспансивная! Она была бы на все способна!
Любовь Николаевна улыбнулась сквозь слезы.
– Что бы она могла мне сделать? – спросила она. – Что ж, она бы выжгла мне глаза серною кислотою? Но я и слепая любила бы вас так же!
– Милая моя! – говорил Абакумов, – любовь моя, зачем ненужные страдания!
По его лицу пробежало краткое содрогание боли и ужаса. Его воображение, всегда слишком живое и потому всегда чрезмерно пугливое, поставило пред ним образ обезображенной красоты. Он почувствовал, что это испытание для него было бы чрезмерно тягостным. Трагическая маска в квартире профессора – это было бы сочетание слишком нелепое и потрясающее. Эстетика обычной жизни не мирилась бы с этим вечным присутствием воплощенного ужаса и созданного из красоты злобою безобразия.
– Друг мой, – отвечала Любовь Николаевна, – все наши страдания не бесцельны. Одно только нам надобно в жизни, – знать, чего мы хотим, поставить себе неизменную цель и только к ней идти. Всем остальным нужно пренебречь, – тогда и самые страдания оправданы.
– Вы еще так молоды! – говорил Абакумов. – Зачем отказываться от счастия? Позднее счастие, но тем более сладкое. Любовь моя, Любовь моя милая!
Любовь Николаевна плакала, коротко и сладостно вздыхая и тихонько вскрикивая при каждом вздохе, – тихо и протяжно:
– Ах! Ах! Ах!
И казалось, что ее вздохи и нежные ее вопли нескончаемы. Абакумов обнял и целовал ее, повторяя настойчиво, тихо и нежно:
– Любовь моя! Милая! Любовь моя! Милая!
29Вдруг сверху, из-за кустов, послышался нарочно громкий голос старого лакея Якова Степановича:
– Николай Иванович, осторожнее, – там на лестнице одна ступенька сломана, еще не успели починить, и у перил балясины повывалились.
Потом послышалось досадливое восклицание Николая, – слов было не разобрать, – и потом донеслось гнусное пение:
Любви все возрасты покорны,
Ее порывы благотворны!
Голос поющего Николая был фальшив, резок, оскорбителен. В нем слышалась насмешка, звучало подлое торжество. Казалось, что этим пением он говорит матери:
– Я видел, я слышал!
Любовь Николаевна быстро освободилась из объятий Абакумова. На ее лице отражались страдание, испуг, гнев, презрение. Она вдруг поняла: ее сын пробирался подсматривать за нею, а почтенный старик Яков Степанович оберегал ее и громким криком дал ей знать о приближающейся опасности. И такое ощущение охватило ее, как будто из-за всех кустов жалят ее острые, издевающиеся взоры и насмешливые, гнусные улыбки. Она сказала Абакумову очень тихо и настойчиво:
– Друг мой, прошу вас, уйдите отсюда.
Абакумов отвечал с презрительным спокойствием:
– Зачем? Это – ваш сын.
И по его лицу, вдруг принявшему строгое, решительное и презрительное выражение, она видела, что и он, как она, понял, в чем дело. Ей стало стыдно за себя, за сына, и от этого чувства, тяжелого, как низкий, грузный свод над головою в сыром подземелье, внезапный гнев охватил ее.
– Мой сын! – сказала она гневно.
И глаза ее засверкали зло и остро. Но опять смятение противоположных чувств овладело ею. Она представила себе, что могут сказать один другому Николай и Абакумов при этой встрече. И она торопливо зашептала:
– Ради Бога, друг мой! я очень взволнована! Я не хочу, чтобы нас теперь, в эту минуту, видели здесь вместе. И особенно он, мой сын!
Абакумов посмотрел на нее внимательно, поцеловал ее руку и по узкой тропинке, едва видной между густо разросшимися кустами, стал спускаться вниз, к забору, где была калитка на берег Волги.
Любовь Николаевна торопливо вытерла слезы, легкие на нежно зарумянившихся щеках, тонким маленьким платком, от которого слабо и сладко пахло фиалкою. Она остановилась в нерешительности, не зная, куда идти. Сначала она хотела избегнуть встречи с Николаем. Потом она вдруг вспомнила, что Николай мог видеть ее с Абакумовым из окна своей комнаты, когда они шли мимо цветочных куртин. Притом же голос Николая слышался все ближе и ближе. Каждый звук этого наглого голоса оскорблял ее и заставлял дрожать.
Николай забыл продолжение арии, которую он начал петь. Резким фальцетом он запел дурашливо, неверно и фальшиво из оперетки:
Я – вечно твоя Перикола,
Но больше страдать не могу.
Потом, опять перейдя на свой режущий ухо баритон, заревел из «Вампуки», все громче и громче:
– Бежим, спешим! Спешим, бежим! Спешим, спешим! Бежим, бежим! Людей смешим!
Любовь Николаевна беспокойно смотрела вслед спускающемуся вниз Абакумову. Уже начала жалеть, что заставила Абакумова уйти. Если Николай увидит его на этой тропинке, какие это вызовет комментарии, какое глумление! Наконец она решилась идти навстречу Николаю, задержать его, не дать ему возможности увидеть Абакумова. Она постаралась придать своему лицу спокойное выражение, но ее шаги были все же слишком торопливы, когда она шла, неся в сердце горькое презрение к сыну, по тенистой извилистой аллейке туда, где за кустами звучал его наглый голос. И уже завидев его неожиданно близко, она заметила, что почти бежит, и замедлила походку.
30Глядя прямо на мать и нагло ухмыляясь, Николай громко пел:
– Я все видел, я все слышал!
Любовь Николаевна, проходя мимо него, спросила:
– Что ты видел, Николай, что ты слышал?
Она сама удивилась тому, что ее голос звучит совершенно спокойно и даже насмешливо. Николай круто остановился и сделал вид, что только сейчас увидел перед собою мать. Ее спокойствие обмануло его, и он не догадался пройти еще несколько шагов по дорожке. Даже и теперь, если бы он наконец замолчал, перестал оглушать самого себя звуками своего голоса и прислушался, то он мог бы услышать шелест в кустах, успел бы добежать до тропинки и увидеть Абакумова. Но, опьяненный своею собственною наглостью, он продолжал звучать, как струна разбитого рояля, слишком усердно надавленная педалью. Он говорил глумливым голосом:
– А, это ты, мамахен! Нет, это я так, из одной веселенькой опереточки. А видеть и слышать здесь, кажется, некого и нечего. А, не правда ли?
Любовь Николаевна молча пожала плечами и шла, не останавливаясь. Николай шел за нею. Но вдруг, словно вспомнивши что-то, резко засвистал, засунул руки в карманы, круто повернулся и пошел по аллее в ту сторону, откуда вышла Любовь Николаевна.
– Николай! – закричала Любовь Николаевна, остановившись.
– Ась? – дурашливо откликнулся Николай, оборачиваясь к ней, и тоже остановился.
Любовь Николаевна говорила с раздражением:
– Очень прошу тебя, – не свищи при мне. Твой свист положительно невозможно слушать.
Николай резко захохотал. Закричал все тем же глумливым голосом:
– Нервочки! Ну хорошо, не буду. Крайней необходимости свистать не ощущаю. Свищу просто от скуки, – от нечего делать, – от веселости, наконец, свойственной моему возрасту. Это тебе трудно понять, мамахен. Но что делать! Нельзя всегда иметь двадцать лет от роду, это я понимаю. Всякому овощу свое время.
Любовь Николаевна вышла на круглую песочную дорожку перед открытою полянкою с большою круглою куртиною посредине и с бордюром из мелких, голубеньких, лиловых, розовых летников. Она села на скамью, прислонилась к ее нагнутой, тонкой спинке и затуманившимися глазами смотрела на легкие, по небу бегущие тучки, на ясную синеву неба, и казалось ей, что безмерно грустен этот день, еще такой ясный, но уже охваченный боязливым предчувствием заката. Ах, дни, умирающие навсегда! Печальная неудержимость времени!
Николай нелепо маячил пред матерью и напевал бессмысленные слова:
Сердце с перцем, эрцум, цум, цум, цум!
Любовь Николаевна смотрела на него внимательно и печально. Вот сын, которого она родила и воспитала! Тот, над которым почила святая любовь матери и ее неустанные заботы!
31Николай вдруг придал лицу притворно-ласковое выражение, от чего стал еще противнее и страшнее, – жаба, вымазанная вареньем, – подошел к матери и, умильно глядя на нее, заговорил отвратительно сладким голосом: