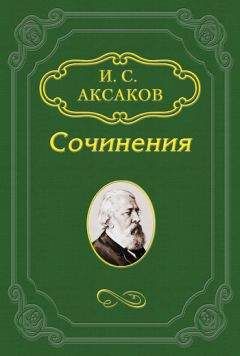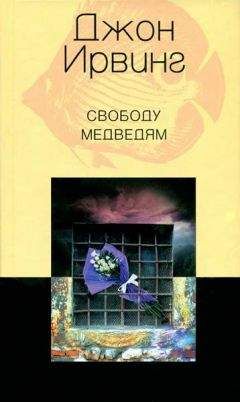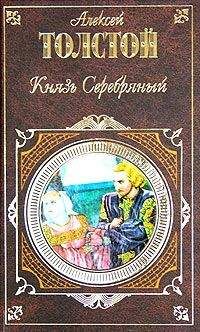Максим Горький - Том 8. Жизнь ненужного человека. Исповедь. Лето
— За что, господи? Виноват ли я, что отец-мать мои отреклись от меня и, подобно котёнку, в кусты бросили младенца?
А другой вины не видел за собой — люди в жизни смешанно стоят, каждый к делу своему привык, привычку возвёл в закон, — где же сразу понять, против кого чужая сила направляет тебя?
Ну, а всё-таки начал я присматриваться, ибо всё более беспокойно и нестерпимо становилось мне.
Барин наш, Константин Николаевич Лосев, богат был и много земель имел; в нашу экономию он редко наезжал: считалась она несчастливой в их семействе, в ней баринову мать кто-то задушил, дед его с коня упал, разбился, и жена сбежала. Дважды видел я барина: человек высокий, полный, в золотых очках, в поддёвке и картузе с красным околышком; говорили, что он важный царю слуга и весьма учёный — книги пишет. Титова однако он два раза матерно изругал и кулак к носу подносил ему.
В Сокольей экономии Титов был — вся власть и сила. Имение — невелико, хлеба сеяли сколько требовалось для хозяйства, а остальная земля мужикам в аренду шла; потом было приказано аренду сокращать и сеять лён, — неподалёку фабрика открылась.
Кроме меня, в уголке конторы сидел Иван Макарович Юдин, человечек немой души и всегда пьяненький. Телеграфистом он был, да за пьянство прогнали его. Вёл он все книги, писал письма, договоры с мужиками и молчал так много, что даже удивительно было; говорят ему, а он только головой кивает, хихикает тихонько, иной раз скажет:
— Так.
И тут — весь.
Маленький он был, худой, а лицо круглое, отёчное, глаз почти не видно, голова лысая, а ходил на цыпочках, без шуму и неверно, точно слепой.
В день Казанской опоили мужики Юдина вином, а как умер он, — остался я в конторе один для всего: положил мне Титов жалованья сорок рублей в год, а Ольгу заставил помогать.
И раньше видел я, что мужики ходят около конторы, как волки над капканом: им капкан видно — да есть охота, а приманка зовёт, ну, они и попадаются.
Когда же остался я один в конторе, раскрылись предо мною все книги, планы, то, конечно, и при малом разуме моём я сразу увидал, что всё в нашей экономии — ясный грабёж, мужики кругом обложены, все в долгу и работают не на себя, а на Титова. Сказать, что удивился я или стыдно стало мне, — не могу. И хоть понял, за что Савёлка лается, но не счёл его правым, — ведь не я грабёж выдумал!
Вижу, что и Титов не чист перед хозяином — набивает он карман себе как можно туго. Держал я себя перед ним и раньше смело, понимая, что нужен ему для чего-то, а теперь подумал: для того и нужен, чтобы перед богом его, вора, прикрывать.
Милым сыном в то время называл он меня и жена его тоже; одевали хорошо, я им, конечно, спасибо говорю, а душа не лежит к ним, и сердцу от ласки их нисколько не тепло. А с Ольгой всё крепче дружился: нравилась мне тихая улыбка её, ласковый голос и любовь к цветам.
Титов с женой ходили перед богом спустя головы, как стреноженные лошади, и будто прятали в покорной робости своей некий грех, тяжелейший воровства. Руки Титова не нравились мне — он всё прятал их и этим наводил на мысли нехорошие — может, его руки человека задушили, может, в крови они?
И всегда — и он и она — просят меня:
— Молись за нас грешных, Мотя!
Однажды я, не стерпев, сказал:
— Али вы сильно грешнее других?
Настасья вздохнула и ушла, а сам отвернулся в сторону, не ответив мне.
Дома он всегда задумчив, говорит с женой и дочерью мало и только о делах. С мужиками никогда не ругался, но был высокомерен — это хуже матерщины выходило у него. Никогда ни в чём не уступал он им: как скажет, так и стоит, словно по пояс в землю ушёл.
— Уступить бы им! — сказал я ему однажды.
Ответил он:
— Никогда ни вершка не уступай людям, иначе — пропадёшь!
Другой раз, — заставлял он меня неверно считать, — я ему говорю:
— Так нельзя!
— Отчего?
— Грех.
— Не ты меня заставляешь грешить, а я тебя. Пиши, как велю, с тебя не спросится, ты — только рука моя! Праведность свою не нарушишь этим, не бойся! А на десять рублей в месяц ни я, ни кто не уловчится правильно жить. Это — пойми!
«Ах ты, — думаю, — дрянцо с пыльцой!»
— Довольно! — говорю. — Всё это надо прекратить. А ежели вы не перестанете баловаться, то я каждый раз буду обличать дела ваши на селе.
Поднял он усы к носу, оскалил зубы и вытаращил круглые глаза свои. Меряем друг друга, кто выше. Тихо спрашивает он:
— Верно?
— Верно!
Засмеялся Титов, словно горсть двугривенных на пол швырнул, и говорит:
— Ладно, праведник! Оно, пожалуй, так и надо мне — надоело уж около рублей копейки ловить. Стало ворам тесно — зажили честно!
И ушёл, хлопнув дверью, так что даже стёкла в окнах заныли.
Показалось мне, как будто сократился Титов с того дня, ко мне перестал приставать.
Был он большой скопидом, и хотя ни в чём себе не отказывал, но цену копейке знал. В пище сластолюбив и до женщин удивительно жаден, — власть у него большая, отказать ему бабы не смеют, а он и пользуется; девиц не трогал, видимо — боялся, а женщины — наверное, каждая хоть раз, да была наложницей его.
И меня к этому не раз поджигал:
— Чего ты, — говорит, — Матвей, стесняешься? Женщину поять — как милостыню подать! Здесь каждой бабе ласки хочется, а мужья — люди слабые, усталые, что от них возьмёшь? Ты же парень сильный, красивый, — что тебе стоит бабу приласкать? Да и сам удовольствие получишь…
Он ко всякой подлости сбоку заходил, низкий человек.
Однажды спрашивает меня:
— Ты как, Матвей, думаешь — силён праведник у господа?
Не любил я вопросы его.
— Не знаю, — говорю.
Подумал он — и снова:
— Вот, вывел бог Лота из Содома и Ноя спас, а тысячи погибли от огня и воды. Однако сказано — не убий? Иногда мне мерещится — оттого и погибли тысячи людей, что были между ними праведники. Видел бог, что и при столь строгих законах его удаётся некоторым праведная жизнь. А если бы ни одного праведника не было в Содоме — видел бы господь, что, значит, никому невозможно соблюдать законы его, и, может, смягчил бы законы, не губя множество людей. Говорится про него: многомилостив, — а где же это видно?
Не понимал я в ту пору, что человек этот ищет свободы греха, но раздражали меня слова его.
— Кощунствуете вы! — говорю. — Боитесь бога, а не любите его!
Выхватил он руки из карманов, бросил их за спину, посерел, видно, что озлобился.
— Так или нет — не знаю! — отвечает. — Только думается мне, что служите вы, богомолы, богу вашему для меры чужих грехов. Не будь вас смешался бы господь в оценке греха!
Долго после того не замечал он меня, а в душе моей начала расти нестерпимая вражда к нему, — хуже Мигуна стал он для меня.
В ночь на молитве помянул я имя его — вспыхнула душа моя гневом и, может быть, в тот час сказал я первую человеческую молитву мою:
— Не хочу, господи, милости твоей для вора: кары прошу ему! Да не обкрадывает он нищие безнаказанно!
И так горячо говорил я против Титова, что даже страшно стало мне за судьбу его.
А вскоре после того столкнулся я с Мигуном — пришёл он в контору лыка просить, а я один был в ней.
Спрашиваю:
— Ты, Савёл, за что издеваешься надо мною?
Он показывает зубы свои, воткнув мне в лицо острые глаза.
— Моё, — говорит, — дело невелико, пришёл просить лыка!
Ноги у меня дрожат и пальцы сами собой в кулак сжимаются; взявши за горло, встряхнул я его немножко.
— В чём я виноват?
Он не испугался, не обиделся, а просто взял мою руку и отвёл её от шеи своей, как будто не я его, а он меня сильнее.
— Когда, — говорит, — человека душат, ему неловко говорить. Ты меня не тронь, я уже всякие побои видал — твои для меня лишни. И драться тебе не надо, этак ты все заповеди опрокинешь.
Говорит он спокойно, шутя, легко. Я кричу ему:
— Что тебе надо?
— Лыка.
Вижу — на словах мне его не одолеть, да и злость моя прошла, только обидно мне пред ним.
— Зверьё, — говорю, — все вы! Разве можно над человеком смеяться за то, что его отец-мать бросили?
А он в меня прибаутками, словно камнями, лукает:
— Не притворяйся нищим, мы правду сыщем: ты ешь крадён хлеб не потому, что слеп.
— Врёшь, — мол, — я за свой кусок тружусь…
— Без труда и курицу не украдёшь, это известно!
Смотрит на меня с бесовой усмешкой в глазах и говорит жалостливо:
— Эх, Матвей, хорош ты был дитя! А стал книгочей, богоед и, как все земли нашей воры, строишь божий закон на той беде, что не всем руки даны одной длины.
Вытолкал я его вон из конторы. Прибаутки его не хотел я понять, потому что, считая себя верным слугой бога, и мысли свои считал вернейшими мыслей других людей, Становилось мне одиноко и тоскливо, чувствую — слабеет душа моя.
Жаловаться на людей — не мог, не допускал себя до этого, то ли от гордости, то ли потому, что хоть и был я глуп человек, а фарисеем — не был. Встану на колени перед знамением Абалацкой богородицы, гляжу на лик её и на ручки, к небесам подъятые, — огонёк в лампаде моей мелькает, тихая тень гладит икону, а на сердце мне эта тень холодом ложится, и встаёт между мною и богом нечто невидимое, неощутимое, угнетая меня. Потерял я радость молитвы, опечалился и даже с Ольгой неладен стал.