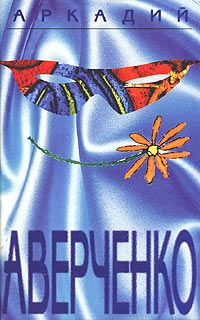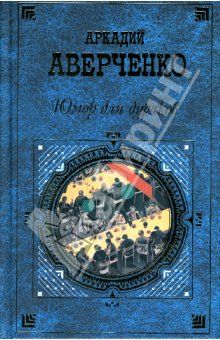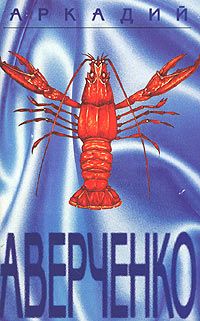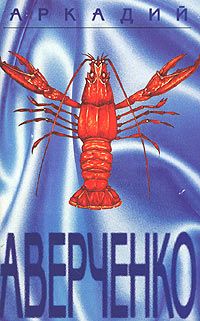Аркадий Аверченко - Том 1. Весёлые устрицы
Черный мужик посмотрел исподлобья на пристава и прогудел:
— Правда.
— Извольте видеть! — всплеснул руками пристав. — Он же еще и признается! Что тебе сделал арендатор?
Мужик еще раз внимательно поглядел на пристава и сказал:
— Я жидов завсегда бью.
— За что же ты их бьешь?
— Они Христа мучили, а также не уважают начальство. Я за неуважение больше.
— Гм… гм… — замялся пристав, — но драться ты все-таки не имеешь права.
— Да как же? — развел руками мужик. — Я им говорю: дайте срок, господин губернатор всех вас перевешает, а он мне, арендатор, говорит: «Что мне твой губернатор? Я его за три рубля куплю!»
— Неужели так и сказал?
— Форменно. Обожди, говорю, будет известно господину приставу о твоих словах, а он, паскуда, смеяться: «Ежели, — говорит, — губернатор у вас три целковых стоит, так пристава за полтинник приобрести можно». А-а, говорю… так?
Пристав неожиданно захохотал:
— Так ты… значит… сыну… ухо?
— Начисто. Форменно, потому я так рассуждаю: ежели ты оскорбил мое начальство, господина пристава, имею я право твоему щенку ухи пооборвать? Имею! Форменно!
— Ха-ха! Ах ты… чудак! Этакая непосредственная душа. Но ты, однако, вот пишут, целый кавардак там устроил. Зачем арендаторшу сковородой вздул?
— Она, ваше благородие, насчет супруги вашей неправильно выразилась. Насчет добродетелей.
— А-а… — криво улыбнулся пристав. — Хорошо-с! Мы об этом расспросим арендаторшу. Вот нехорошо только братец, что ты старшину оскорбил и зубы вынул десятскому. Зачем?
— Они тоже. Я говорю: не смейте меня брать! Я за господина пристава старался! а они мне: «А что твой пристав за такая цаца?» Так и сказали — «цаца». Потемнело у меня. Об начальстве так! Ну, развернулся…
— Ха-ха, ха-ха! Ты, я вижу, неглупый парень… с правилами. А дело твое придется прекратить. Прекурьезное оно уж очень… Ступай, Шестихатка! Постой! Водку небось пьешь, Шестихатка?
Пристав Бухвостов порылся в кармане и вынул полтинник.
— На… выпьешь там где-нибудь.
— Форменно! Я бы, ваше благородие, насчет сапожков взыскать к вашей милости! Нет ли каких? Пообдержался я сапогами.
— Ладно уж, веселый ты парень… Я тебе свои дам, поношенные. Два месяца всего и носил. Так, сковородкой ты ее?
— А мне что? Трахнул, да и все. С ними так и нужно!
Пристав вышел из канцелярии в спальню и через минуту вынес сапоги.
— Вот, — сказал он. — Бери. Ступай, брат! Иди себе.
— Ваше благородие! Может, пальтишко какое?
— Ну, ну… иди уж. Довольно тебе. Не проедайся. Эй, Парфен! Выпусти его — пусть идет себе… Да тащи сюда другого. Прощай, Шестихатка. Так цаца, говорят? Ха-ха, ха-ха!
— Прощайте, ваше благородие! Оно дальше еще смешнее будет. Желаю оставаться.
Десятский ввел другого человека, привезенного мужиками, и, толкнув его для порядка в спину, вышел.
— А-а, сокол ясный! Летал, летал, да и завязил коготь. Давно вашего брата не приходилось видеть… Как Эрфуртская программа поживает?
Перед приставом стоял небольшой коренастый человек с бычачьей шеей, в жокейской изодранной шапчонке и, опустив тяжелые серые веки, молча слушал.
— Конечно, об вашем социальном положении нечего и спрашивать: лиддит, мелинит, нитроглицерин и тому подобный бикфордов шнур.
Потом, переменив тон, пристав посмотрел в лицо неизвестному и сухо спросил:
— Сообщники есть?
— Не было, — тихо ответил неизвестный.
— Ну, конечно! Я так и думал. Что ж, господин ниспровергатель! Зверь вы, очевидно, красный: в город нам с вами ехать придется. Ась?
— Да, я из городу и есть.
— Вот как!.. Какой же ветер занес вас на сенюхинские огороды?
— Зачем мне на сенюхинские огороды? Я на Боркино ехал, ваше благородие.
— Ну, да. Так что старшина, и писарь, и мужики оклеветали вас, бедненький?
— Черт попутал, ежели так сказать.
— Не-у-жели? Что вы говорите? Первый раз слышу об участии этого господина в ваших организациях… Небось и на убийства шли не сами по себе, а наущаемые сим конспиратором?
— Да убийства никакого и не было. Так, хотелось… попугать…
— Конечно! Бросишь ее под ноги — легкий испуг и нервное потрясение… Ха-ха! Ваша платформа, конечно, предусматривает любовь и великодушие к ближнему. А? Что же вы молчите?
Неизвестный переступил с ноги на ногу и сказал:
— Пьян был.
— Что-о-о?
— Пьян был. А они… за сено… тридцать копеек. Разве это возможно.
— Какое сено? Что вы?
— Ихнее. Я им говорю: Христа на вас нету, а они: «Там, говорят, есть или нет, а мы без расчету Ваську не отпустим!»
— Ничего не постигаю. Какой Васька?
— Чугреевский. Я на Чугреевскам ехал. И так мне обидно стало. Ах, вы, говорю, такие-сякие! Пыли вашей не останется!..
— Стой, стой, милый. Я ничего не разберу. Кому ты это сказал?
— Арендателю.
— Да бомба-то здесь при чем?
— Бомба ни при чем.
— Так чего же ты, черт тебя возьми, арендатора путаешь? Бомбу ты где взял?
— Не брал я ее, ваше благородие. Зачем нам… нам чужого не нужно…
Пристав побагровел.
— Да ты кто такой?
— Опять же чугреевский. Они: «Тридцать копеек, — говорят, — дозвольте!» Ка-ак? Где такой вакон, чтобы за гнилое сено… Ну, и пошло.
— Что пошло?
— С пьяного человека что взять, ваше благородие? Известно, ничего.
— Ты, брат, что-то хвостом виляешь. Бестолковым прикидываешься. Мужичком-дурачком.
— Дурачок и есть. Нешто вумный будет жидятам ухи рвать? Зуд у меня ручной. Как очухаешься, видишь — да-а-а… завинтил.
Пристав Бухвостов прыгнул к неизвестному и вцепился ему в горло.
— Ты, ты… Как тебя, зовут?
— Меня-то? А Савелием. У Чугреевых в амбарных. Савелий Шестихатка по хфамилии.
Пристав Бухвостов оттолкнул от себя Савелия и с ревом вылетел в переднюю.
— Ушел! Упустили мерзавца!
Оставшись один, Савелий поднял недоуменно брови и сказал, обращаясь к портрету в золотой раме:
— Вот, поди ж!.. Не выпьешь — ничего, а выпьешь — сейчас в восторг приходишь. Тому ухо с корнем выдрал, этому зубы… Ежели с таким характером, то ухов, брат Шестихатка, для тебя жиденята не напасутся! Жирно!
Нервы
Когда Царапов проснулся, его неприятно поразило, что платье его не было вычищено и ботинки валялись тут же около кровати, забрызганные грязью.
Сердце Царапова сжалось, сделалось маленьким, злобным и провалилось куда-то вниз, пронизавши тело, и простыню, и пружинный матрац.
— Черт их всех раздери! — прошептал, передернувшись мелкою дрожью, Царапов. Потом вскочил, сжал губы в мучительную складку и стал одеваться.
Забрызганные грязью ботинки вызывали в нем решительное отвращение… Он натянул их на ноги и стал шарить концы шнурка. Через минуту обнаружилось, что концы влезли вместе с ногой внутрь ботинка, и это заставило Царапова заскрежетать зубами и громко выругаться. Он сел на стул, злобно взмахнул обеими ногами и ботинки слетели с ног, причем один попал на подзеркальник, свалив хрустальный пульверизатор.
Царапов пришел в неистовство. Поймал оба ботинка, снова натянул на ноги и стал нервно зашнуровывать их. Но на половине этого утомительного занятия шнурок не выдержал бешеных движений Царапова и лопнул.
Царапов сорвал с ног ботинки и стал топтать их, шепча прыгающими губами что-то нечленораздельное. Вынул из шкафа новые лакированные туфли и надел их, хотя через окно было видно, что шел дождь и улицы покрылись липкой грязью.
— Пусть! — шипел он. — Пусть!
Одевшись, Царапов вышел из комнаты и с какой-то злобной радостью встретил идущую с подносом горничную Лушу.
— Что? Чай пить? Ты мне еще керосину предложи, дурища! За что вам, дармоедам, деньги платятся? Платья не чистите, ботинки грязные…
— Да ведь вы сами, давеча, барин, комнату свою на ключ закрыли… я хотела взять, а вы не открыли.
— Молчи!! — визгливо закричал Царапов и, хлопнув дверью, стал спускаться с лестницы.
— Какая отвратительная лестница, — подумал он. — Здесь каменщикам каким-нибудь жить или слесарям… а не порядочным людям. И швейцар — дрянь преизрядная. Небось, вчера ночью на чай не дал, так эта упитанная морда сегодня и не подумает распахнуть дверь…
Швейцар снял фуражку и распахнул перед ним дверь на улицу.
— Подхалимы все! — подумал Царапов и зашагал, осторожно ступая лакированными туфлями по мокрому тротуару.
Трамвая пришлось ждать долго — минут десять. Царапов прошептал по адресу заправил трамвая несколько слов, осуществление которых сделало бы несчастными не только этих толстокожих людей, ной их семейства. Потом, подождав еще немного, крикнул извозчика. Когда он садился в пролетку, из-за угла показался ожидаемый им трамвай, но извозчик в это время уже тронул, и через двадцать шагов обнаружилось, что лошадь не бежала, а шла, еле переступая с ноги-на-ногу…