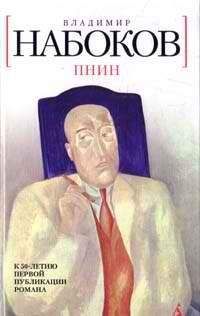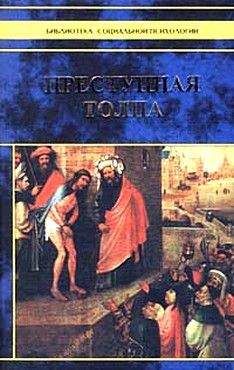Владимир Набоков - Пнин
Это очень верное наблюдение, с той только поправкой, что Набоков сам ни во что не вмешивается (присутствуя при этом везде в книге, в каждом ее элементе), но посылает вместо себя своего «представителя». «Пнин» – именно такой роман, правда, здесь этот вторгающийся агент сделан язвительным, неуязвимым повествователем, сверх-актером, который держится все время на периферии рассказа, им же сплетенного, а в конце быстро перебегает в самую его середину. Нетрудно заметить, что и в каждом романе от первого лица – другими словами, едва ли не во всех своих английских романах – Набоков употребляет посредника, обладающего способностями к художественному сочинительству, соразмерными с трудностью повествовательной задачи. Из сего следует, что в приведенной выше цитате Бойда имя Набокова употреблено, строго говоря, неверно, потому что нельзя сказать, что сам автор выступает в роли вершителя судеб в созданном им мире. Набоков всегда и намеренно, а значит, и с возможным тщанием, производит посредника – настоящего или, чаще, фальшивого своего наместника, «очередного представителя», повествовательного агента, часто сомнительной нравственности и даже неустановимой личности, – и делает это по той важной причине, что, по его убеждению, созданный мир в принципе не может вынести непосредственного прикосновения руки своего создателя.
«Герои Набокова, – по замечанию одного ученого читателя, – галерные рабы, потому что они сознают себя во власти бесчеловечных и самодержавных сил»{44}. Но если позволить себе очевидное возражение, земные труды человека подобны трудам вымышленных персонажей. Мы вполне можем разрешить задачу бытия Пнина, над которой он бьется в каждой главе своей жизни, но которой ему по самой природе вещей не дано разгадать. У него бывают странные, но небезосновательные, подозрения, что он есть жертва манипуляций N. – особенно в первой и последней главе. Но его представления и верования так неопределенны и запутаны, и такой положен предел его познаниям о себе и окружающем, что всякий раз, что он досягает мыслью или интуицией до высшей границы книги, до бесконечно малого, но непреодолимого промежутка, отделяющего повесть N. от обнимающего ее сооружения Набокова, – как его обволакивает как бы мерцающий туман, из которого он выходит ни с чем – если не считать ощущения, что вот опять упустил что-то крайне важное, подлинное, сердцевинное и как-будто тебе не заказанное, доступное, может быть, некоторому еще неиспробованному извороту мысли. Пнин не верит, чтобы люди могли по смерти «соединиться на небесах», и по-своему он прав: эта идея, поскольку она касается вымышленного мира Пнина, при всей своей привлекательности не имеет положительного смысла. Он не верил в «самодержавного Бога», зато он «смутно верил в демократию призраков», но читатель-то отлично понимает, что это странная и наивная ересь: самодержавная власть автора романа ограничена только естественными законами его бытия, которые его искусство стремится воссоздать как можно тщательнее и правдоподобнее.
8
Если ложные верования героев романа относительно безвредны для них, то неожиданное приоткрытие аксиоматической истины может их совершенно сокрушить. «Самодержавное божество» в романе «Под знаком незаконнорожденных» позволяет Адаму Кругу уловить искру подлинного знания истинного положения вещей и милосердно лишает его рассудка и тем избавляет от потрясения, соединенного с такими открытиями. Когда подобное открытие даровано Адаму Фальтеру (Ultima Thule), то его мышление претерпевает коренной перелом, и его разум делается непригодным для «земной жизни», и он скоро умирает в приюте для сумасшедших. Так в вымыслах Набокова запредельное знание сопряжено с душевной болезнью и смертью, и меньшей ценою не достается (да и этой крайне редко). Иное дело веровать в загробную жизнь, и иное знать о ней нечто; в мире искусства Набокова это знание саморазрушительно, ибо оно уничтожает самую идею знания, и даже самую идею идеи. Вот отчего Ван Вин, психолог, изучающий слухи и иносказания об ином мире, пишет, что «смешение двух действительностей, одной в одинарных, другой в двойных кавычках, есть признак надвигающегося безумия»{45}.
Незримая, но заботливая рука неизменно останавливает Пнина на самой кромке опасного открытия. Кабы не так, героя пришлось бы изъять из повести по примеру Адама Круга, чтобы не треснула скорлупа романа вследствие онтологической несовместимости двух сред, ведущей к разрушительной деформации. В конечном счете рука настоящего, искусного писателя всегда десная (а N. – левша), и в ней он держит все нити и единовластно манипулирует своими созданиями, и ею заботится о них. Между прочим, Набоков как-будто собирался пойти еще дальше в своем намерении вызволить Адама Круга из порочного, влево перекошенного круга романа, возвратив героя «на лоно своего создателя»: в письме к Вильсону января 1944 года он писал, что «к концу книги… станет явной и во весь рост распрямится никогда прежде не применявшаяся идея». Спустя три года Вильсон в одном из своих писем обронил несколько слов, проливающих свет на этот оставленный к тому времени замысел: «Жалко, что Вы отказались от мысли свести Вашего героя с его создателем{46}. В «Пнине» Набоков находит более сложное применение этой стратегии, помещая между своими персонажами и «собою» посредника – повествователя, близко напоминающего Набокова во многих внешних чертах, но существенно отличающегося от него в важнейших. Поэтому когда он передает Ковичи сжатое содержание книги, где пишет, что в конце ее сам он, «В. Н.», лично приезжает в Вэйндельский университет с лекцией о русской литературе, в то время как «бедный Пнин умирает», то он как-будто нарочно упрощает дело, потому что он, В. Н., всегда остается за кордоном кавычек и никак не может прибыть в «Вэйндельский университет», а «бедный Пнин» никоим образом не умирает, да, по сути дела, и не может умереть.
В еще сравнительно недавно прошедшем веке, с самого его жестокого и грозного начала, было много раз сказано и пересказано, что «творчество» всякого артиста, и особенно словесного – отливающего эту самую мысль в точные новые формы, – уподобляет его Творцу (и тем оправдывает существование это малого творца, измельчает и изглаживает его пороки, и вековечит его имя). Великая и древняя гордостность этого тезиса, любимая всеми любителями Бердяева, стала яснее к половине века, когда из него выпростался наследственный ему тезис о том, что быть предметом творения, быть тварью невыносимо и унизительно. Эти-то тезисы и испытываются на многоугольных площадях сочинений Набокова.
Каков же итог этих испытаний? Его лучшим героям дано заподозрить существование спасительной, всеустроительной творческой силы за пределами постижимого, и это подозрение облагороживает их чувство недостаточности, хотя и не может изгнать его совершенно. «Если наша жизнь, – пишет Бойд, – упорядочена силою нам внешней, то эта сила, по-видимому, и создала самый этот порядок посредством человеческой свободы, как оно и происходит в хорошем романе. Упорядочение жизни человека не только не уменьшает ее цены, видимой изнутри ее смертности, но и способно сообщать новое блистательное достоинство наблюдателю, находящемуся вне условий смерти»{47}.
Герои Набокова наделены несколькими неслыханными дотоле преимуществами. Во-первых, среди них часто присутствует переодетый посол автора, участвующий в перипетиях их судеб в пределах книги. Один из таких гримированных агентов, писатель Вадим Вадимыч N., подвержен пугающим, но вместе с тем многое открывающим видениям, в которых ему показывается тайна образа его существования:
Признаюсь, что в ту ночь, и в следующую, да и некоторое время перед тем у меня было чувство, точно во сне, что моя жизнь – несовершенный близнец, перепев жизни другого человека, ее неудачный вариант, – не знаю, на этой ли земле или на другой какой. Я чувствовал, будто какой-то демон принуждал меня прикидываться этим другим человеком, другим писателем, который был, да и всегда будет, несравнимо лучше, здоровее и безжалостнее, чем покорный ваш слуга[52].
Чей покорный слуга? Этого «другого писателя», «безжалостно» его сочинившего? Или читателя, собеседника и друга этого сочинителя, читателя, могущего раскрыть книгу жизни «Вадима Вадимыча N.» в любом месте и тем открыть ее тайну – увидеть в ней то, чего тот знать не может – в том числе и то, что он более всего хочет узнать – ее происхождение, и конец, и смысл?
Другая, связанная с первой, привилегия избранных героев Набокова – особенно тех мучеников, которые загнаны в тиски отчаяния, доведены болью до последних границ разумного существования, – та, что им дается увидеть хоть краешком глаза на мгновение показавшийся плавник того великого открытия, которое читатель Набокова может добыть просто умственным усилием, именно, что в хорошо сочиненном мире персонажи, sub specie auctoris et lectoris (то есть под пристальным, внимательным и любящим оком, взирающим из немыслимого далека) – не смертны. В предисловии ко второму изданию «Под знаком незаконнорожденных» Набоков объясняет, что в последней главе «антропоморфное божество», роль которого он на себя взял, испытывает боль от жалости к своему созданию и поспешно вмешивается в ход событий. Круг, пораженный внезапной, как луна в прорыве тучи, вспышкой безумия, сознает, что он в хороших руках: ничто, в сущности, не имеет значения, бояться нечего, и в конце концов смерть – это вопрос стиля, не более чем литературный прием, музыкальное разрешение{48}.