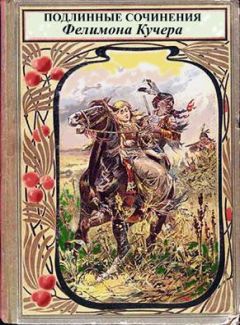Андрей Платонов - Том 4. Счастливая Москва
По вечерам Айдым зажигала лампу. Она садилась за столом против Назара и делала что-нибудь, чего не успела сделать днем: расчесывала себе блестящие, черные волосы, набирала ковер из старых тряпок и мешочных ушивок, рассматривала с улыбкой картинки в книгах, не понимая, что они изображают, или просто глядела на Чагатаева, не сводя с него глаз, и разгадывала, что он думает — про нее или про другое.
— Назар, — спросила Айдым в один долгий вечер. — Назар, а отчего мы живем? Нам будет хорошо за это?
— А тебе плохо сейчас со мной? — сказал Чагатаев в ответ.
— Нет, мне хорошо теперь, — произнесла Айдым и послюнявила штопку во рту. — Я просто так себе сказала, потому что у меня во рту говорится что-нибудь…
Ее большие, открытые темные глаза были наполнены блестящей силой детства и зачинающейся юности, — они смотрели на Чагатаева с доверчивым интересом и сами по себе были предметами счастья, если глядеть на них со стороны. И если даже обмануть доверие Айдым, то она все равно простит свою обиду: ей надо жить дальше и долго томиться каким-либо мученьем она не может.
— Назар, чего я всегда ожидаю? — опять спросила Айдым. — Отчего мне кажется такое важное, а потом ничего не бывает… Отчего у меня сердце начинает болеть?
— Ты растешь, Айдым, — сказал Чагатаев. — Пусть тебе кажется что-нибудь в голове, пусть твое сердце начинает болеть — ты не бойся, без этого горя жизнь не бывает.
— Не бывает, — согласилась Айдым. — А я не хочу, чтоб это было. У твоей матери сердце от голода болело, она мне сама говорила… Пускай у нас теперь другое горе будет, интересное,* а не такое. Такое надоело. Ты выдумай что-нибудь […]
Чагатаев привлек к себе Айдым и приласкал ее, поглаживая девочку по большой, все еще детской голове.
— Научи меня, чтоб я лучше не думала, а то я боюсь: мне кажется страшное! — сказала Айдым.
— Но ведь у тебя не от голода душа начинает болеть? — спросил Чагатаев.
— Не от голода, — ответила Айдым. — У меня от чувства… Назар, отчего я чужая?
— Кому ты чужая, Айдым? — спросил Чагатаев.
— Народ жил с нами, а теперь весь раскочевался, — сказала Айдым. — Ты тоже скоро уйдешь, кто тогда меня помнить будет?
— Я от тебя не уйду, — пообещал Чагатаев.
— Назар, скажи мне что-нибудь главное…
Айдым привернула фитиль в лампе, чтобы меньше тратилось керосина. Она понимала — раз есть что-нибудь главное в жизни, надо беречь всякое добро.
— Главного я не знаю, Айдым, — сказал Чагатаев. — Я не думал о нем, некогда было… Раз мы с тобою родились, то в нас тоже есть что-нибудь главное.
Айдым согласилась:
— Немножко только… а неглавного — много.
Айдым собрала ужинать — вынула чурек из мешка, натерла его бараньим салом и разломила пополам: Назару дала кусок побольше, себе взяла поменьше. Они молча прожевали пищу при слабом свете лампы. Тихо, неизвестно и темно было на Усть-Урте и в пустыне.
После ужина Чагатаев вышел наружу, чтобы посмотреть, что сейчас делается в мире, и послушать — не раздастся ли чей-нибудь человеческий голос во тьме… Где теперь бродит Старый Ванька или Кара-Чорма и неужели Молла Черкезов видит свет своими глазами?
Айдым тоже вышла из жилища и позвала Назара:
— Иди спать ложись, а то я огонь в лампе потушу…
— Туши, — ответил Назар, — я потом опять его зажгу.
— Нет, лучше не надо: ты спички будешь тратить! — сказала Айдым. — Ты в темноте ложись…
Айдым ушла в дом. Чагатаев сел на землю и осмотрелся. Слабая ночь шла над ним; ветра не было, звезды изредка показывались на небе — их застил высокий, легкий туман. Снег остался лишь в далеких, возвышенных овражных распадках Усть-Урта, его уже отовсюду согнал ветер и стравило полуденное солнце. А в другую сторону, на юг, лежала бедная, родная пустыня, покрытая пустым небом; иногда, на мгновение, пустыня вдруг озарялась мерцающим неизвестным светом, и там чудились горы, города, население людей, большая, влекущая жизнь. Но на самом деле там сейчас спали черепахи, зябло семя прошлогодних трав и мелкий, местный ветер зачинался в песке и ложился обратно в него. Чагатаев сошел вниз, поближе к Сары-Камышу, и окликнул темное пространство. Ему ничто оттуда не ответило, и даже голос его не отозвался обратно, — звук сразу заблудился и исчез.
Чагатаев вернулся домой. Айдым спала под одеялом и больше не слышала ничего, ей снились ее детские сны, и она занята была тем, что видела в самой себе. Назар зажег лампу, наложил в сумку чуреков и оделся в ватный пиджак и шапку-папаху. Затем он приоткрыл одеяло и посмотрел в лицо Айдым, — оно было оживленным, внимательным, и глаза ее, не вполне спрятанные веками, были в движении, следя за тайными событиями в своей душе.
— Айдым, — прошептал ей Чагатаев.
Айдым открыла сначала один глаз, потом другой.
— Спи, Назар, — сказала она.
— Нет, я сейчас не буду, — ответил Чагатаев. — Я пойду народ соберу, я скоро вернусь.
— Приходи скорее, — попросила Айдым.
— Ты не скучай без меня, — сказал Назар.
— Не буду, — пообещала Айдым. — Ступай скорее, а то они ослабеют — они теперь набегались, наигрались, им пора домой.
Чагатаев тронул рукой голову Айдым и пошел от нее, но Айдым велела ему сначала потушить лампу, потому что ночь еще долга, а свет ей не нужен.
Погасив лампу, Чагатаев оставил дом и отправился по нагорью в сторону Хивы. Оглянувшись вскоре на местопребывание своего народа, Чагатаев уже не увидел там ничего, — и лишь незаметно среди всего мира и природы осталась одна уснувшая девочка Айдым. Но это ничего, ей горя мало — в домах лежит рис, мука, соль, керосин, спички тоже есть, а счастье и терпение пусть она добывает в одном своем сердце, пока н? вернется к ней остальной народ.
Чагатаев шел быстро; рассвет его застал уже в глуши Сары-Камыша; а темный Усть-Урт, еще находившийся в ночи, был теперь на последнем отдалении и погружался своим основанием за край земли… На третий день пути Чагатаев пришел в Хиву. Там бывали большие базары, куда приходили люди из пустыни, чтобы посмотреть на торговое добро, купить что-либо для удовлетворения своей крайней нужды и повидаться друг с другом. Назар надеялся, что на хивинском базаре он встретит людей своего племени и уведет их обратно домой. Они неминуемо должны явиться в толпу чужого народа; им ведь нужно было послушать слухи и разговоры, посидеть в чайхане, снова почувствовать свое достоинство и задуматься о старой песне, которую споет и сыграет бахши на дутаре. В глиняных жилищах на Усть-Урте еще мало было обыкновенного, житейского, а без него нигде не живется человеку.
Чагатаев появился на хивинском базаре около полудня. Солнце, уже пошедшее на лето, хорошо освещало сорную землю базара, и земля согревалась теплом. Вокруг базара стояли дувалы жителей, около их глиняных стен сидели торгующие у своих товаров, разложенных по земле. Посреди площади, на низких деревянных столах, тоже шла торговля добром пустыни.
Здесь лежал урюк в небольших мешках, засушенные дыни, овечьи сырые шкурки, темные ковры, вытканные руками женщин в долгом одиночестве, с изображением всей участи человека в виде грустного повторяющегося рисунка; затем целый ряд был занят небольшими вязанками дров — саксаульника, и далее сидели старики на земле — они положили против себя старинные пятаки и неизвестные монеты, железные пуговицы, жестяные бляхи, крючки, старые гвозди и железки, солдатские кокарды, пустые черепахи, сушеные ящерицы, изразцовые кирпичи из древних, погребенных дворцов, — и эти старики ожидали, когда появятся покупатели и приобретут у них товары для своей нужды. Женщины торговали чуреками, вязаными шерстяными чулками, водой для питья и прошлогодним чесноком. Продав что-нибудь, женщина покупала для себя у стариков жестяную бляху на украшение платья или осколок изразцовой плитки, чтобы подарить его своему ребенку на игрушку, а старики, выручив деньги, покупали себе чуреки, воду для питья или табак. Торговля шла тож на тож, без прибыли и без убытка; жизнь, во всяком случае, проходила, забывалась во многолюдстве и развлечении базара, и старики были довольны. В некоторых дувалах, расположенных вокруг базара, в их внутренних дворах, находились чайхане; там сейчас шумели большие самовары и люди вели свою старую речь между собой, вечное собеседование, точно в них не хватало ума, чтобы прийти к окончательному выводу и умолкнуть. Пожилой, коричневый узбек пошел в одну чайхане; он понес за спиной сундук, обитый железом по углам, — и Чагатаев вспомнил этого человека: он видел его еще в детстве, и узбек тогда тоже был коричневый и старый. Он ходил по аулам и городам со своим инструментом и матерьялом в сундуке и чинил, лудил и чистил самовары во всех чайхане; сажа и копоть работы, ветер пустыни при дальних переходах въелись в лицо рабочего человека и сделали его коричневым, жестким, с нелюдимым выражением, и маленький Назар испугался пустынного самоварного мастерового, когда увидел его в первый раз. Но рабочий-узбек тогда же первый поклонился мальчику, подарил ему согнутый гвоздь из своего кармана и ушел неизвестно куда по Сары-Камышу; наверно, где-нибудь в дальних песках потух самовар. Около мусорного ящика, прислонившись к нему, стояла туркменская девушка; она прижимала рукою яшмак ко рту и смотрела далеко поверх базарного народа. Чагатаев тоже поглядел в ту сторону — и увидел на краю пустыни, низко от земли, череду белых облаков, или то были снежные вершины Копетдага и Парапамиза, или это было ничто, игра света в воздухе, кажущееся воображение далекого мира. О чем же думала сейчас душа этой девушки, — неужели до нее не жили старшие люди, которые за нее должны были передумать все мучительное и таинственное, чтобы она родилась уже на готовое счастье? Зачем раньше ее люди жили, если она, эта туркменская незнакомая девушка, стоит теперь озадаченная своей мыслью и печалью? Насколько же были несчастными ее родители, все ее племя, если они ничем не могли помочь своей дочери, прожили зря и умерли, и вот она стоит опять одна, так же как стояла когда-то ее нищая молодая мать… Лицо этой девушки было милое и смущенное, точно ей было стыдно, что мало добра на свете: одна пустыня с облаками на краю, да этот базар с сушеными ящерицами, да ее бедное сердце, еще не привыкшее к нужде и терпению.