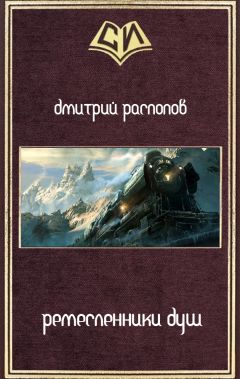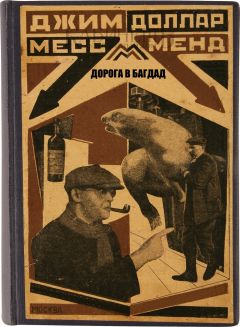Мариэтта Шагинян - Своя судьба
— Что же она, радуется? Или, может, ей удобств ваших ни колишеньки не надобно?
Маро подняла обе руки, словно защищаясь от удара, но вдруг уронила их и, положив на них голову, зарыдала громко, как плачут дети, с безутешным и безудержным отчаянием.
Глава двадцатая
БУМАГА ШЕВЕЛИТСЯ
Сердце мое сжалось. Я вскочил и кинулся к Маро. Но меня предупредил Фёрстер.
— Маро, — сказал он, нагнувшись к дочери и протягивая ей руки, — дитя мое!
— Па, ах, па… — Она произнесла это сквозь боль, безнадежно, не находя других слов, и спрятала голову на груди у отца.
Батюшка счел необходимым заглянуть для чего-то в свою табакерку, а потом, убедившись в бесполезности этого поступка, вынуть изо рта папиросу и глядеть на нее до тех пор, пока она не потухла. Фельдшер Семенов вышел тихонько из комнаты. Варвара Ильинишна спряталась за самовар, сморкаясь что-то уж очень долго в смятый платочек. Даже мухи заползали по столу с самым конфиденциальным видом, удовлетворяясь пешим способом передвижения и не делая взлетов на наши лица. И было вполне понятно, что я, самый посторонний в этой конференции, тоже, как и фельдшер, вышел на цыпочках и спрятался у себя в спальне. Так кончился наш заговор против Маро. По мнению Варвары Ильинишны, «необыкновенно удачно», — так удачно, что уж теперь она сама выберется на дорогу, и не нужно ее, бедняжку, мучить ни единым взглядом или намеком. Так шепнула она мне, заглянув в спальню, когда Фёрстер отправился домой с Маро и с отцом Леонидом. Я видел, как она опять нерешительно взглянула в мою сторону, — ей, видно, не хотелось оставлять меня одного.
— Сергей Иванович, голубчик, я Дуню пришлю, проветрить и подушки вам взбить!
— Спасибо, не беспокойтесь, Варвара Ильинишна!
Но вместо Дуни ко мне совсем неожиданно заглянул Зарубин. Лицо его было как-то странно перекошено, словно в прерванной гримасе, и я не понял сразу, злится он, огорчен или намерен расхохотаться.
— Вы как себя чувствуете сейчас? — рассеянно спросил он, даже и не поглядев на меня. — Говорить можете?
А мне страстно хотелось поговорить с кем-нибудь. Весь этот вечер я играл роль молчальника, и весь этот вечер копились и копились во мне мысли и впечатленья, которым не было выхода. Я знал, что он сегодня дежурит, знал, что, видимо, воспользовавшись приходом Фёрстера в санаторию, попросту сбежал на минутку с дежурства, но мне так страстно хотелось поговорить с ним, что я не стал думать, почему и зачем он прибежал ко мне.
— В самом настоящем настроенье, — лихорадочно ответил я, садясь возле него. — Тут была конференция. Очень тяжело, драматично все выходит, и я не знаю…
— Какая конференция? — перебил он меня, вдруг словно пробудившись от своих мыслей.
Я начал рассказывать ему все подряд, довольно бессвязно, перемешивая рассказ собственными выводами и рассуждениями.
— Значит, был Ястребцов? Потом профессор с отцом Леонидом? Карл Францевич как вам показался на сей раз?
И опять он перебил мои мысли чем-то своим, а я не понял и продолжал говорить:
— Происходила как будто хирургическая операция, а мы все ассистировали. Вы понимаете, как Маро за последнее время ушла в себя, ни с кем не делилась, озлобилась, ходила каменная… Вот это надо было взорвать в ней общими усилиями. В конце концов довели до слез, и это прорвало, это было спасение для нее. Даже наш фельдшер-молчальник заговорил. Но я не удовлетворен, Валерьян Николаевич. Мне кажется, мы сегодня просто насиловали судьбу двух людей, и кто вообще имеет право вмешиваться в чужую судьбу?
— Вы о чем, Сергей Иванович? — спросил вдруг Зарубин так рассеянно, что я понял — он совершенно меня не слушает, и откровенно рассердился.
— Ну, ну, — взглянув на меня, протянул он добродушно, — могу даже повторить, что вы сказали, — хирургическая операция, прорвало, Тихоныч заговорил. Сергей Иванович, неприятности подошли, вот почему я к вам забежал.
— Неприятности? Еще что-нибудь?
— На сей раз не психологические, а самые настоящие. Получил из Питера письмо от одного благожелателя — сообщает, что готовится на нас целая облава. Приедет сюда на этих днях ревизия, но больше формально, потому что в сферах, кажется, уже все решено и нашего Карла Францевича снимут.
— Снимут? Карла Францевича? Да разве санатория не его рук дело? Ведь он хозяин!
— Во-первых, там какие-то акционеры сидят, капитал не его. Он сам у них на жалованье. А во-вторых, нынче не очень-то смотрят, кто создавал. Ликвидируют или реквизируют под госпиталь — вот и вся штука.
Я мигом забыл все свои переживанья.
— Боже мой! — вырвалось у меня. — Валерьян Николаевич, это ужас, это невозможно. Дело погибнет, дело какое!
— Будем бороться, — ответил Зарубин. — Я пока ему ни слова, и вы молчите, заранее не волнуйте. Ему к ревизии готовиться нечего, все у него открытое, всем и каждому видимое, а пожалуй, Карл Францевич по присущей ему чистоплюйности еще хорошее припрячет…
Хорошее — это особая бескорыстность Фёрстера и его любовь к санатории. Хоть я и не был в курсе финансовой стороны, но знал от фельдшера, что Фёрстер много строил и ремонтировал на свой счет, частенько выплачивая и жалованье сезонным рабочим из собственного кармана. Зарубин, конечно, намекал на все эти факты.
— Бороться, бороться будем, но вы пока ни слова! А насчет операции — вы мнением местных жителей, горцев и прочих, когда-нибудь интересовались? Не интересовались, так спросите. Услышите неожиданное, Сергей Иванович.
И в то время как я под впечатлением новости о ревизии уже успел выбросить из головы все свои думы о Маро и Хансене, Зарубин, оказывается, отлично слышал меня и не пропустил слышанного мимо ушей.
— Поговорите с ними, — продолжал он, чуть понизив голос, — надо ведь к фактам со всех сторон подходить. Жители здешние, конечно, если вы их вызовете на откровенность, скажут, что наша барышня негоже себя повела, от живой жены мужа отбивает, закрутила голову рабочему человеку, не в свое общество полезла жениха ловить. Вот каков голос народа. Больно слышать? И мне больно. И все-таки, друг милый, это истина, такая же истина, как ваши психологические тонкости о неземной любви и о сродстве тонких душ, — только взятая с другой, житейской стороны. Нашей Марье Карловне эта истина невдомек, она ее не услышит, и ей никто ее не перескажет. А за спиной все говорят, все без исключенья, и в том числе купец Мартирос. Это от себя не отбросишь. Это, Сергей Иванович, суд и осуждение.
Я представил себе, каким холодным ужасом наполнили бы эти слова бедную Маро, если б она их услышала, какой грязью забросали бы ее чистое и невинное отношение к Хансену. И все-таки, все-таки… А Зарубин, словно угадав мои мысли, тем же тихим голосом прибавил:
— Все-таки полезно было бы ей услышать. Есть такой один момент в цепи наших поступков, когда человек, ежели он животное разумное, homo sapiens, вполне может остановить себя. Остановил развитие чувства — и факты пошли другой дорогой, уморил в себе червячка, не дал ему кушать, сдох червячок в зародыше, только и всего. А мы, видите ли, чуть червячок заведется, окружаем его поэзией, этаким ландшафтом, снеговыми вершинами, воображеньицем — еще бы, Гольбейн, Ван-Дик, — и непонимание его окружающей средой, монстры вместо семьи, теща — баба-яга, жена — внутренний враг, и пошло, и пошло. Тут я с Карлом Францевичем в корне расхожусь. Деликатничал до предела, предоставлял свободному теченью. А будь моя дочь — я бы отрезал ей всю правду по-мужицки, как она видится простым людям.
Я ничего не ответил ему. Он был и прав и глубоко, решительно, по-человечески не прав.
— Вообще, друг мой, — Зарубин встал и снова заговорил обычным голосом, — в сужденьях ваших о положении вещей я давно заметил один вопиющий пробел. Не сердитесь, но вы судите-рядите о людях, словно все они живут на манне небесной. Выпадает у вас как-то, что люди зарабатывают в поте лица хлеб свой насущный. А это ведь главное. Вы поглядите, как Хансен трудится. И как его жена трудилась, пока на ногах стояла. Простая, молоденькая работяга-бабенка, и был у них настоящий лад, как в нормальной семье. А спросите себя, разве в таком вопросе можно решать, не думая о хлебе насущном? Хансен своим жалованьем кормит четырех человек. Как он устроится, ежели разведется? Что будет делать его нынешняя семья? И умеет ли наша барышня по-настоящему, в поте лица, работать? Да еще угроза нависла — снимут нашего профессора…
Вошла Дуня, и Зарубин, кивнув мне, быстро удалился. После нашего с ним разговора прошло несколько дней. Карантин мой кончился, август подходил к середине. Бледная и тихая, как тень, Маро сторонилась меня. Фёрстер лежал с сердечным припадком. Никто из нас так и не решился сказать ему о ревизии. Были и другие перемены.
С того времени как тесть застал Хансена и Маро у озера, техник перестал таиться от семьи. Гуля, лежавшая в постели, отнеслась к событию с безучастной покорностью. Сперва она плакала тихонько в подушку, потом перестала и плакать и лежала день и ночь с полузакрытыми глазами, жалуясь на жесткость тюфяка. Это была ее единственная жалоба. Ей добыли высокий пуховик, мягкий и вздутый, как волны морские, перекрыли постель, и, когда она улеглась, словно окунулась в него, жалобы ее на несколько часов стихли. Но на другой же день, повернув безучастное лисье личико к матери, она закряхтела и застонала тихонько, с нескончаемой обидой, все на ту же тему: бокам больно, животу больно, пояснице больно и тюфяк жесткий.